Свобода, безопасность и терроризм
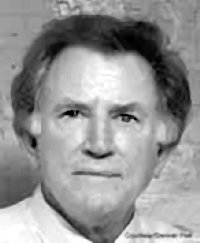
В данный момент Америка находится в лихорадочном поиске основополагающего принципа, на котором она могла бы построить внешнюю и оборонную политику. В течение почти полувека, вплоть до падения советской системы в начале 90-х, стержневой доктриной, направляющей политику США в области национальной безопасности, было сдерживание коммунизма. «Война с терроризмом» стала удобной заменой этому принципу. Но она не может обеспечить надёжного (или сколько- нибудь привлекательного) фундамента для роли, которую суждено играть Америке в мире в XXI веке.
Поиск новой выдающейся стратегии, или же, как минимум, нового организующего принципа, осложняется тем, что мы живём в революционные времена — беспрецедентную эру нескольких революций одновременно, каждая из которых является грандиозной и исторической.
Благодаря глобализации интернационализируются рынки, финансы и коммерция, в то время, как благодаря информационной революции меняется стиль нашей работы, учёбы и общения. Обе революции приносят пользу развитому миру Запада, но углубляют пропасть между «богатыми» и «бедными», в данном случае теми, кто не может предложить для обмена готовой продукции, услуг или ресурсов или не имеет доступа к новым технологиям.
Они также способствуют третьей революции, размыванию суверенитета — и, следовательно, авторитета — национального государства. Банкротство государств, особенно искусственно сконструированных великими державами после войн или наспех скроенных прежними колониальными властями, становится серьёзной международной проблемой и обещает остаться таковой. По мере размывания авторитета государства на сцену выходит четвёртая, и потенциально самая опасная, революция: трансформация войны и изменение природы военных конфликтов.
Это революция, которая пришла в Америку 11 сентября 2001 года. Конечно, предостережений было много. Первая атака на сам Всемирный торговый центр произошла в 1993 году. Затем были взрывы казарм американской армии в Саудовской Аравии в 1996 году, посольств США в Кении и Танзании в 1998 году и корабля ВМФ США «Cole» в 2000 году.
15 сентября 1999 года Американская комиссия по национальной безопасности в XXI веке выпустила доклад под названием «Новый мир наступает». Его первый вывод заключался в том, что «Соединённые Штаты подвергнутся террористической атаке с использованием оружия массового поражения, и американцы погибнут на американской земле, возможно, в большом количестве».
Та же комиссия, в составе которой работал я, 31 января 2001 года убеждала нового президента, Джорджа Буша, подготовить страну к этим атакам, объединив разрозненные федеральные правительственные управления в новое национальное управление внутренней безопасности. К нашим предостережениям и рекомендациям не прислушались. При первой атаке террористов на Америку в новом столетии погибло три тысячи человек. Все соглашаются с тем, что это не последние жертвы. Многие эксперты полагают, что спустя два года США ещё так и не начали принимать экстренные меры, необходимые для защиты от дальнейших атак.
Даже вопрос «свобода или безопасность» обсуждался относительно мало, несмотря на всю его важность. Причина, вероятно, в том, что предупредительные контртеррористические меры в США доставили неудобство в основном американцам арабского происхождения, в то время, как более широкие круги американского общества не были затронуты. Но США являются (и гордятся этим фактом) развитой либеральной демократией, где свободы личности гарантированы Конституцией и Биллем о правах, и где они находятся под защитой независимой судебной системы, существующей в качестве равноправной третьей ветви власти.
Юридические круги Америки и некоторые другие слои общества начинают осознавать сложность проблем, с которыми сталкиваются США, стремясь защитить себя от атак извне, чего не случалось, начиная с 1812 года. Должно ли национальное правительство иметь доступ к компьютерным сообщениям и телефонным переговорам граждан и других жителей страны? Должны ли подозреваемые помещаться под надзор по причине принадлежности к определённой этнической или религиозной общности? Должна ли надлежащая процедура — включающая право предстать перед судом присяжных — использоваться для «сражавшихся на стороне врага» или других людей, которые являются просто подозреваемыми?
Эти и другие вопросы затрагивают самую основу демократии и ценностей США. Ответить на них в будущем будет нисколько не легче. Напротив, есть опасность, что они будут задаваться намного чаще и с намного большей озабоченностью.
Одна из величайших проблем для демократических обществ в начале XXI века — установление правильного баланса между безопасностью и свободой. Стоит сделать слишком сильный уклон в сторону свободы, и общество оказывается незащищённым перед лицом терроризма. Но создание общества повышенной безопасности означает победу террористов, потому что это приводит к удушению демократических свобод. Требуются законодатели с мудростью Соломона, а таковых очень немного.
В этом поиске правильного баланса демократия не должна замыкаться в национальных рамках. США могли бы воспользоваться опытом других стран и поделиться своим опытом с ними. Свобода не принадлежит какой-либо конкретной нации или системе. Это всеобщее благо, к которому должны стремиться все. Угрожает ли ей фашизм, коммунизм, терроризм или любая другая форма фанатизма, свобода должна защищать себя такими способами, которые не приводят к её самоуничтожению.
В эту эпоху множества фундаментальных революций, возможно, величайшей революцией станет изобретение новых способов обеспечения выживания и процветания демократических свобод.
Выпуск газеты №:
№119, (2003)Section
Подробности





