Ода полиции
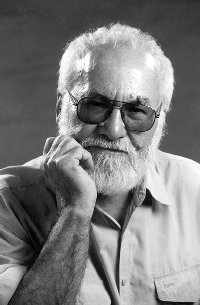
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И СЕМЬЯ
Можно утверждать, что развитость гражданского общества определяется степенью участия граждан в работе сил его охраны, в первую очередь — полиции. Именно то право, которое является центральным элементом всеобщего порядка, не случайно названо публичным. Я согласен с возможным замечанием о банальности этого тезиса. Абстрактно все понимают, что иначе и быть не может, что забота об общественной безопасности должна быть делом каждого. Между тем на уровне повседневности можно обнаружить в разных культурах удивительные различия. Приведу пример. Всем нам известно, что если встречный автомобиль днем сигналит вам фарами, значит впереди находится бригада ГАИ. Вы принимаете меры, через некоторое время действительно видите работников инспекции и, проехав их, подаете такие же сигналы встречным машинам. Но вот факт, который сообщил мне знакомый, побывавший в Германии. Когда ваш автомобиль стоит вместе с другими перед красным светофором, и вы стоите, переехав стоп-линию, скажем, на метр, среди ваших соседей обязательно найдется водитель с мобильным телефоном. Он сообщит о нарушении в полицию, и через пару минут вас остановят. И не дай вам Бог отпираться — будет хуже. Два факта — два отношения к власти. В первом случае частные лица солидарны — надо избегать контактов с полицией. Во втором — лицо использует полицию, чтобы пресечь нарушение порядка. Если у них — гражданское общество, то что у нас? По Гегелю, ответ однозначный: у нас семья.
ФОРМЫ ВЛАСТИ
Согласно Аристотелю, их только две — «господская власть» и политическая. Когда мы слышим слово «господская», у нас, привыкших к разговорам о всеобщем равенстве, возникают несимпатичные ассоциации. Чувствуется здесь что-то ненормальное и даже отталкивающее. У Аристотеля ничего такого нет. Разве плохо, если умственно развитое существо руководит умственно неразвитым существом, для его же блага? Например, отец «руководит» малым ребенком. Или умственно развитый, но физически слабый господин руководит физически сильным, но умственно отсталым рабом. Обоим хорошо. Это и есть «господская власть». Господин и раб — суть-воплощение в разных людях ума и тела. «Разнесенные» в пространстве, ум и сила образуют хорошо организованную систему и живут сообща.
Наша привычная реакция на «господскую власть» рождена опытом общения с извращенной господской властью. Когда (прибегу здесь к словесному штампу) господин «злоупотребляет своим положением». Злоупотребление властью вызывает ответную реакцию, в худшем случае — восстание детей или рабов, в лучшем — их солидарность в избегании контактов с властью. Находящиеся под чином дети и рабы исходят из принципа «власть — наш общий враг». Отсюда их солидарность, отсюда вывод: обманывать и обкрадывать господина — дело доблести и геройства.
Политическую власть устанавливают свободные и ответственные люди для себя. Не надо связывать «политическое» Аристотеля с теми мрачными образами, которые это понятие вызывает сегодня. «Существо политическое» — это свободный человек, живущий в городе (государстве) и радеющий об общих делах, прежде всего о том, чтобы власть была справедливой. Последний тезис и обусловливает участие человека в процессе формирования и функционирования власти. Конечно, и политическая власть может быть извращенной. Согласно сентенции «всякая власть развращает». Пожалуй, самое яркое проявление негатива политической власти — коррупция.
ПОЛИЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Любопытно, что, по Гегелю, полиция является структурой гражданского общества, а не государства. Ее цель — попечение о лицах, включающая два момента — надзор и опеку. Сфера действий — практически безгранична. «Полиция должна заботиться об уличном освещении, строительстве мостов, установлении твердых цен на товары повседневного потребления, а также здоровье людей». И это не все. Еще — надзор за семейным воспитанием, организация благотворительности, содержание домов призрения, пресечение чрезмерного обогащения и появления черни и т.д. и т.п. Полиция для гражданского общества — то же, что домовладелец для семьи. Эта безграничность сферы действия с необходимостью порождает неопределенность оценок: вопрос о том, что вредно и что не вредно, оказывается отнесенным к сфере усмотрения, сдержанного добрыми нравами. Гегель, как мы знаем, — идеалист. Но не в расхожем смысле, что первично, что вторично. Он занят должным. Должное для него действительно. Все будет хорошо при добрых нравах. Они сдерживают рвение к устройству жизни по формальным меркам. Перед умственным взором Гегеля стояло властное лицо, каким оно должно быть. Или человек, каким он должен быть. А еще точнее — добрый отец.
При политическом устройстве концепт отца вообще отсутствует. Полиция превращается в аппарат, который вводится в действие частным лицом. Человек, позвонивший в полицию из автомобиля, действует сам. Ему принадлежит инициатива в деле пресечения нарушения. Он — субъект действия, хотя и действует через посредство полиции. Он лишь сообщает, но с полной уверенностью в том, что «аппарат» включится незамедлительно.
«СТРАНА СТУКАЧЕЙ!»
Так аттестовал немецкий порядок знакомый, вернувшийся из летнего путешествия. У одних —«сообщение органам, отвечающим за общественную безопасность», у других проще — донос. Почему это слово в известной культуре всегда имело смысл крайне неэтичного поступка? «Доносчику первый кнут», гласит пословица. «От товарищей — за донос, либо от начальства — за неисправность», добавляет В.Даль. Между тем граждане благополучных европейских стран, поощряемые государством, «стучат» и «стучат».
Недавно британское правительство обеспечило своим подданным возможность анонимно «стучать» через Интернет на мошенников, незаконно получающих пособия и другие доходы. На сайте министерства социального обеспечения Великобритании помещено подробное разъяснение. Там, в частности, говорится: «Каждый год мошенники обходятся нам в два миллиарда фунтов стерлингов — это деньги, которые можно было бы потратить на школы, больницы и борьбу с преступностью. Мы уже предприняли ряд мер для борьбы с мошенниками, но нужно сделать больше. Вот почему нам нужна ваша помощь». Нет сомнения в том, что на этот призыв о помощи откликнутся тысячи англичан. По телефонной «горячей линии» министерства, введенной ранее, еженедельно звонят более четырех тысяч человек. На родине демократии обыватель считает, что охрана казны, закона и порядка — дело каждого. В Италии налоговая полиция ввела специальную линию телефонной связи с трехзначным номером (117), по которой можно анонимно сообщить о попытках торговцев скрыть доходы. Несколько иначе вышло в Испании. В 1997 году министерство внутренних дел выпустило циркуляр под названием «Сбор данных, представляющих интерес для гражданской безопасности». По всему следовало, что всех испанцев приглашают к сотрудничеству с полицией. Соседи, живущие «не по средствам», лица, дающие объявления о сдаче квартир, люди с нетрадиционными сексуальными наклонностями и т.д., в общем те, кто «ведет себя не как все», должны были оказаться в поле всевидящего ока. В испанской печати разгорелись страсти, вступление в силу циркуляра пришлось заморозить. Испанцы еще помнят полицию времен Ф.Франко. Да и сам циркуляр, в силу всеохватности предлагаемого слежения, оказался не в ладах с законом.
ЕСЛИ ПРОЗРАЧНОСТЬ, ТО ВЗАИМНАЯ
Полиция должна заботиться об освещении улиц. Эта странная, с современной точки зрения, обязанность упоминается Гегелем дважды на протяжении четырех страниц в «Философии права». Для психоаналитика такой повтор — лакомый кусочек, можно построить забавный сюжет о потаенных мыслях автора. Для меня гегелевское «освещение улиц» — метафора, раскрывающая суть деятельности полиции, вокруг которой во всем мире идут сегодня дискуссии. Речь о сборе информации — важнейшего ресурса современной жизни. С 1997 года в Англии публичную жизнь «освещают» свыше миллиона миниатюрных телекамер слежения. Они установлены в местах скопления людей — в банках, магазинах, на автобусных остановках. Подсчитано, что каждый человек в течение суток может быть заснят на пленку тремястами различных телекамер. За два года после установления этой системы слежения было задержано много лиц, находящихся в розыске, произведено более пятисот арестов после автоматического считывания номерных знаков автомобилей. Телекамера слежения — тоже метафора. Государства всего мира ускоренными темпами оснащаются новыми, быстро усовершенствующимися средствами наблюдения за людьми. Не только на улицах, но и в приватной сфере. Как следует из ежегодного отчета Privacy and Human Rights, подготовленного двумя правозащитными организациями США и Великобритании, ведущую роль в развитии средств надзора, особенно электронного, играет правительство США. Понятно, что эта деятельность государства вообще характеризует саму его суть — стремление к знанию всего и вся в жизни граждан. Но развитое государство признает право на тайну частной жизни и обязуется это право гарантировать. Возникает вопрос о границе: где заканчивается освещение и начинается эта самая тайна. Государство требует: «Света, больше света!», а частное лицо сопротивляется, отстаивая неприкосновенность своей персоны. В то же время государство стремится объявить тайной все больше информации, отражающей общественную жизнь, а частные лица настаивают на том, что в открытом обществе государственные службы должны быть прозрачны. К слежке прибегают и частные компании. Недавно правительство Великобритании приняло решение, согласно которому компании-работодатели имеют право на прослушивание телефонных разговоров и перлюстрацию электронной почты своих сотрудников. Показательно не само по себе предоставление этого права компаниям, а то, что ранее работодатель мог делать это только с личного согласия работника.
Это неудержимое разрастание «всевидящего глаза» и «всеслышащего уха» во всем мире осуществляется, повторюсь, при активном участии США. В упомянутом выше докладе отмечается, что первый японский закон, разрешающий прослушивание, был принят под давлением США, и американские специалисты консультировали своих коллег относительно введения системы прослушивания в странах Восточной Европы, включая страны бывшего СССР. Нам не известны мотивы такого поведения. Однако, почему бы не высказать одно соображение общего порядка касательно взаимоотношений между обществом и государством?
Когда у нас говорят о необходимости активного регулирования рынка государством и ссылаются при этом на опыт США, хочется заметить: «Сначала доживите до такого развитого рынка как в США, а потом уж регулируйте его государством». При хилом рынке и силовом государстве о регулировании лучше помолчать. Вопрос появится сам собой при мощном рынке и ограниченном законами государстве. Но пока в стране не развито правозащитное движение, пока нет таких мощных организаций как американская Electronic Privacy Information Center или британская Privacy International, пока реально не гарантирован информационный паритет между гражданами и государством, расширение полномочий сыскной службы будет представлять угрозу правам человека.
СУДЬБА PRIVACY
Приходится признать, что надзор за гражданами со стороны государства и частных компаний будет и далее усиливаться. Что бы ни говорили правозащитники, у государства есть неотразимый аргумент в пользу надзора — борьба с преступностью. Преступники организуются, криминальные организации становятся «государством в государстве». Кроме того, в технологически сложном обществе крайне опасными становятся террористические акты и немотивированные диверсии. Какой-нибудь фанатик, террорист-одиночка может вывести из строя важнейшие системы общественного жизнеобеспечения.
Не настала ли пора поразмышлять о privacy, вообще о праве на тайну в свете факта человеческой скученности и опасностей, отсюда вытекающих? Приходит на ум банальный пример: прежде чем устроиться плавать в общественном бассейне, надо пройти медицинский осмотр. Почти все мы знаем значение слова «private», знатоки английского знают, что слово это (в другом значении) точно характеризует наш пример. Не является ли отношение человека к такого рода процедурам, аттестуемым часто как унизительные, всего лишь культурным феноменом, т.е. исторически обусловленным? Осмотры, досмотры, пребывание лиц на различных учетах — если смотреть на дело исторически, разве не становится все это привычной повседневностью? А раньше об этом отзывались весьма дурно. Всего лишь двести лет назад Г.Фихте предложил помещать в паспорта подозрительных лиц не только их приметы, но и их изображения. Эта мера вызвала протест у Гегеля, которого многие сегодня считают апологетом тоталитаризма. И что же? Теперь изображения помещаются в паспорта всех лиц. Стало быть, все считаются потенциально подозрительными? Не является ли наше отношение к данным о себе таким же, как отношение человека архаической культуры к своим состриженным ногтям и волосам — он уничтожает их из боязни стать жертвой магических действий со стороны недоброжелателя? Я не утверждаю, что является. Хочу только обратить внимание на следующий тезис — человек, став существом политическим, по Аристотелю, не может не стать человеком публичным в самом широком смысле.
Выпуск газеты №:
№34, (2001)Section
Общество





