Ветви культуры
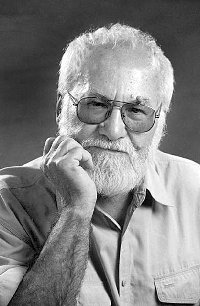
ИДЕЯ УНИВЕРСИТЕТА
Радио-физический, физико- технический, механико-математический, химический, физический…. Какое все это имеет отношение к идее классического университета? Никакого. Ибо идея эта сугубо гуманитарная. Не фабричный выпуск специалистов предполагала она, не любопытство к неисчерпаемому электрону, а прямую заботу о человеке. У человека есть ДУША, ТЕЛО и ДЕЛО. Вот над чем взяли попечение высшие факультеты классического университета — теологический, медицинский и юридический. Это были сообщества хранителей самых важных наук и сообщества наставников тех, кто отправлял самые важные человеческие дела. Действительно, священник, врач и юрист — главные персонажи культуры. К этим трем обращается человек и повседневно, и в самые ответственные моменты своей жизни. И даже до нее и после. Когда о личном обращении не может быть речи. Врач приходит, чтобы встретить человека, вселяющегося в сей мир. Священник провожает его в мир иной уже после смерти. Юрист имеет с ним дело и до его рождения, и после смерти. По ходу обратим внимание на такой факт: в развитых странах из массовых практик, статус которых измеряется в денежных доходах, нет выше медицины и юриспруденции.
А современный вид университет приобрел из-за того, что, начиная с эпохи Просвещения, расширялся и дифференцировался низший и свободный его факультет — философский. С той поры стало набирать силу естествознание. А в советское время дело дошло до того, что в университете, например в моем родном, не осталось ни одного из первых четырех факультетов.
Можно утверждать, что священник, врач и юрист, олицетворяют собой главные ветви культуры, стержневые ее виды. Священник — ДУХОВНУЮ культуру, врач — ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ, юрист — СОЦИАЛЬНУЮ. Стоп! Утверждать сегодня, благодаря свободе слова, можно все, что душе угодно. А вот, как быть с тем читателем, который при слове «культура» настраивается на повествование о писателях, художниках и музыкантах? Причем здесь, спросит он, эти, приведенные вами, персонажи? Разве о них пишут газеты в рубрике «Культура»? Точно, не о них. И меня это удивляет. Я согласен с М.Л.Гаспаровым: «Культура — это все, что люди делают, говорят и думают». Короче, я сам пока не знаю, куда поместить писателя и ему подобных мастеров, к какому разряду их отнести, после разберемся. А к вопросу читателя замечу, что мы здесь понимаем культуру не узко, а широко, шире некуда.
Но это не все. Читатель спросит: а почему у вас технологическая культура ассоциируется с врачом? Тут, скажет он, явная натяжка. Отвечу так: натяжка, конечно, есть, но не большая. Даже не натяжка, а, скорее, дань архаике. Сегодня, благодаря развитому естествознанию, сужена сфера компетенции врача. Сегодня природа, понимаемая как внешний мир, заслонила собой тело. Но не от тела ли человеческого пошло «физическое тело»? То, которое «движется прямолинейно и равномерно», то, которое при нагревании расширяется? Интерес к природе изначально проистекал не из любопытства, а из совершенствования практического опыта или искусств, как выражались древние греки. «Из искусств только те порождают что-либо серьезное, которые применяют свою силу сообща с природой, каковы, например, врачевание, земледелие и гимнастика». (Платон). Случайно ли врачевание поставлено здесь в один ряд с земледелием? Случайно ли два из перечисленных искусств имеют своим предметом человеческое тело. А знахарями в народе и сегодня называют не просто врача, но чародея и мага, умеющих воздействовать на все живое, и шире, на всю природу, и, при желании, восстанавливать в ней правильный ход процессов. И почему слово «доктор» обозначает и врача и ученую степень? Замечу еще, что в средневековом университете лектор назывался «доктором», т.е. теоретиком, а демонстратор опытов при нем — «хирургом», т.е. экспериментатором. Можно утверждать, что все природоведение пошло от медицины. И это понятно, какой еще опыт для человека важнее, чем опыт сохранения здоровым собственного тела?
Ладно, в уступку нашему времени, я могу и отказаться от мысли, что врач олицетворяет собой технологическую культуру. Кто же тогда? Как назвать человека, имеющего дело с телами вообще, с телами природными, материальными? Скотовода, земледельца, строителя, кузнеца, портного, сапожника и т.п. Платон в «Государстве» называет их дельцами. Можно назвать трудящимися. Таким был Адам, высланный из Рая на проклятую из-за него землю. Вот — начало истории: Бог на небе и Адам на земле, трудящийся в поте лица. Больше — никого. Если не считать женщины, предназначенной для рождения детей, и потому нареченной Адамом Евой («Ева» = жизнь).
Но вернемся к нашим персонажам — священнику, врачу (трудящемуся) и юристу. Каждому из этих троих соответствует, так сказать, предмет интереса или то, с чем каждый из них имеет дело. Священнику — БОГ, трудящемуся — ПРИРОДА — ее тела, юристу — ЧЕЛОВЕК. Этими тремя исчерпывается ВСЕ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Да, Бог на небе, человек на земле. Земля-Природа ему ближе. Он взят из нее при сотворении, и выслан из Эдема, чтобы возделывать ее. «Cultura», из латинского словаря, и есть возделывание. И еще воспитание, почитание, поклонение. Все это о земле. У римлян это — cultura agri. Отсюда язычество как обожествление природы. Материализм — тоже язычество. А разве не любопытно это движение значений слова «cultura» от возделывания к поклонению. От господства, обладания и эксплуатации к служению. От отношения «она для меня» к отношению «я для нее». Это хорошо видно по тому, как изменяется статус животного. В начале оно — предмет охоты, движущаяся пища, добыча. Затем — объект ухода, заботы. Животное холят, но, скажем так, не даром. Еще шаг, животное — партнер по игре, вообще, по общению. Наконец животное, не каждое, конечно, объявляют священным. Это — движение от утилитарного к сакральному, от потребления предмета к восприятию его как символа. Культура и культ — одного происхождения. Важно не то, ЧТО человек делает, а то, КАК он это делает. Культура, когда человек делает хорошо! С любовью, лелея творимое им детище. Философ может упрекнуть меня за банальное «хорошо», и станет рассуждать об идеалах и ценностях. А я отвечу: «И увидел Бог, что это хорошо». Так было в конце каждого дня творения.
Это «как» может иметь и другой смысл. Речь идет о степени совершенства, эффективности. Украинцы по старинке хвалятся своими черноземами, не зная, возможно, что в Израиле на камнях и песках собирают урожаи побогаче. Не в земле дело, а в умении получать больший эффект при меньших физических усилиях и независимо от природных условий.
С ростом технической мощи человека расширяется пространство его свободы. Первобытный человек прикреплен к месту на земле и живет согласно ритмам времен года. А современный человек может жить и в космосе, и на дне морском, и во льдах Антарктиды. Он может ночью работать, а днем спать; зимой плавать в теплом бассейне, а летом бегать на коньках по искусственной ледовой дорожке; в любое время года есть экзотические овощи и фрукты; не выходя из квартиры, наблюдать события, происходящие в разных точках планеты и даже за ее пределами. Ясно, что «современный человек» — это не каждый, из живущих сегодня. Многие люди живут в условиях почти первобытных, умирают от голода.
Техническая мощь сама по себе еще не свидетельствует о наличии технологической культуры. Драма техногенной цивилизации в том, что разбуженные человеком силы природы, вроде бы покоренные и поставленные ему на службу, вызывают непредусмотренный негативный эффект. Пожалуй, самый впечатляющий пример — катастрофа в Чернобыле. Это, надо понимать, — реакция природы на насилие, ответ человеку на его эгоизм, самодовольство, стяжательство. И предостережение: философия покорения, обладания и эксплуатации ведет к гибели. Любопытно, что человек отвечает на это не только мерами практическими — экологическим законодательством, акциями организаций вроде Greenpeace, но и возвратом к язычеству. И где? В Европе возрождается религия почитания природы.
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
От Земли к Небу — деваться нам некуда. Если о технологической культуре мы говорим в контексте земных дел, то духовная культура, конечно, рождается в устремлениях к небесному. Это — культура религиозная. У римлян это — cultura Dei. Именно в религии явно выражается отношение к материальному в жизни человека как не главному. Имеющему, конечно, известное значение, но удерживаемому в рамках, подчиненному правилам, которые умеряют вызываемые им страсти. Ценность материальной деятельности ясна и несомненна, благодаря ей продолжается жизнь. Однако она не является замкнутой на себе, не может быть целью в себе. Она есть условие духовной жизни. Технологическая культура зиждется на здравомыслии, смекалке, сноровке. В этой сфере всякое действие имеет цель — получить желанную вещь, и вообще, иметь то, чего в данный момент мы не имеем. Конечно, здесь присутствует и эмоциональное начало, присутствуют чувства. Это, прежде всего, — радость, рождаемая приближением к цели, удовлетворение собой, успешно решающим задачу. И еще — удовольствие от обладания и комфорта. Духовная культура сопряжена с другими чувствами, если хотите, возвышенными, чистыми. Эти чувства наполняют человека в экстатическом состоянии, т.е. переживании, сравнимым, возможно, со легким свободным парением над земным, материальным, суетным. Над всем, что понуждает людей маяться в заботах о карьере, деньгах, власти. Но вот к чему приходишь, размышляя о духе. Молитва, музыка, поэзия, да, это — источники экстатического состояния. Но разве алкоголь и наркотики — нет? Вверху и внизу эти два источника, нижний источник доступнее. Дух сам по себе не свидетельствует о культуре. Дух бывает не тронут культурой.
А религиозность духовной культуры подтверждается тем, что это освобождение от суетного мира, воспарение над ним, осуществляется не только в редкие мгновения экстатического состояния, но и более или менее продолжительно. Когда человек избирает особый образ жизни, реализуя принцип неприятия мира. Он уходит в пустынь, в скит.
СОЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Два мира, обозначаемые как Земля и Небо, не исчерпывают всего, что есть. Есть еще Я, не будем об этом забывать. И есть еще другой человек. В этом Другом, как и во мне, соединились Земля и Небо. Мы сложены из этих субстанций, и потому нет ничего сложнее Нас. Для меня этот Другой — самый непосредственный источник экстатического переживания. И здесь тоже разные качества. Для кого-то, даже не для духовного плебея, экстаз достигается только в оргазме. Человек склонен эксплуатировать дары Неба и Природы. Вообще же, социальная культура характеризует человечность человеческих отношений. Право и мораль призывают нас двигаться в этом направлении. А в конце этого пути — Милость и Любовь.
Мораль требует: терпи и воздерживайся. Право подсказывает: не упускай своего. Здесь возможно напряженное противостояние священника и юриста. Может быть, не современного священника, а Того, кто стоял у истоков христианства, ибо Он сказал жаждущему жизни вечной: «Продай имение и раздай нищим». А еще раньше сказано было: «Порядочный человек — это тот, кто довольствуется меньшим того, на что имеет законное право». (Аристотель). Впрочем, что взять с юриста. Он не решает — покупать или продавать. Он — социальный технарь, он просто поможет сделать то, что вы желаете сделать. И потом, что значит раздать? Не нравственнее ли создать, как говорят, рабочие места. И не выходит ли так, что толковый бизнесмен социально культурнее, нежели пускающий слезу благотворитель?
Итак, высший уровень социальной культуры — нравственность. Конечно, от земного не уйти. И не надо, надо только не сопротивляться зову небесному.
Выпуск газеты №:
№54, (2003)Section
Общество





