ВРЕМЯ — МЕРА МИРА
Некоторое количество разговоров с Евгением СТАНКОВИЧЕМ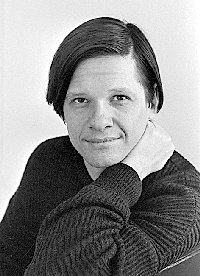
Беседовать со Станковичем — занятие не из легких. Беседа постоянно сбивается с ритма обдуманных вопросов-ответов, побочные темы становятся главными, а смыслы обретают воистину романтический темперамент. Станкович выходит за края диалога не потому, что не настроен на него: такова его натура, сила таланта, которая за ним стоит. Поэтому не с руки составлять послужной список, перечислять награды, писать обстоятельную преамбулу к интервью. Достаточно того, что уверенно вступив в права владения ремеслом и став в 1970-е годы лидером симфонической сцены, Евгений Федорович постоянно и неутомимо стремится отдать миру как можно больше музыки, всегда наполняющей его. Грандиозные здания четырех Симфоний 1970-х годов, напряженный трагизм «Голодомора», эпическая фантазия фольк- оперы «Цвіт папороті», изящество Камерных симфоний, величественная фреска «Каддиш- реквиема», блистательные балеты и концерты, многочисленные и каждый раз неповторимые камерные и хоровые опусы — главнейшие высказывания композитора, после которых обыденная речь кажется обесцененной.
Но со Станковичем надо говорить. Не для его — для нашей славы.
— Глядя на вашу биографию, поневоле убеждаешься, что вы с самого начала словно знали свое предначертание. Или это ошибочный вывод?
— Нет, вы не ошибаетесь. Но предначертывает только Господь; раньше говорили — судьба. Я действительно занимаюсь с самого раннего детства одним и тем же, хотя начал учиться достаточно поздно, в силу отсутствия музыкальной школы. Никаких других наклонностей, «аппетита», как говорил Стравинский, не возникало. Несмотря ни на что, сочиняю музыку до сих пор, а дальше — черт его знает, если судьба будет милостива...
— Вас часто называют «семидесятником». Вы с этим согласны?
— Нет. Я вообще это разделение считаю глупостью. Семидесятники, восьмидесятники, — людям нравится придумывать подобное, может, их это как-то укрепляет. Понятие шестидесятников, к примеру, родилось при ослаблении идеологического тоталитарного режима, в котором я, собственно, большую часть жизни прожил. Но система быстро все перекрыла. Когда я начал самостоятельно заниматься, об этих шестидесятнических веяниях даже не знал.
— Самое интересное, выходит, пропустили?
— Есть вещи, которые никак не могут влиять на какие-то партийные движения, и наоборот. Получился феноменальный парадокс в те годы. Например, итальянские композиторы были коммунистами, а коммунисты на Кубе считали, что только авангардное искусство может быть созвучно идеям социализма. Здесь, поскольку какой-нибудь Тихон Николаевич не понимал эту музыку, считалось, что она плоха. Все зависит от точки зрения. Авангард, модернизм как новые явления рождались с социалистическими идеями. Как-то потом это превратилось в маразм, изжило себя. Такова судьба всех систем и в музыке, и в обществе, это закон развития нашей цивилизации.
— А вы пытались поверить свое творчество политикой?
— Никогда в жизни. Несмотря на то, что состоял членом КПСС, особых усилий с моей стороны не наблюдалось… Я даже 10 лет был секретарем парторганизации Союза композиторов, каждый год собирался уходить, и каждый год меня снова избирали. Музыкант должен заниматься своим делом. Есть люди с общественной жилой. В музыке это, например, композитор и дирижер Пьер Булез — он больше говорит, чем музицирует. О сочинении, которое звучит десять минут, он пишет толстую книгу. Мне же ближе Стравинский, Шостакович, Прокофьев, Антон Веберн: их интерес в чистой музыке, а для нее необходим двужильный организм. У кого-то есть избыток энергии. Я так не устроен. По-моему, того, чем я занимаюсь, вполне достаточно, дай Бог, чтобы на это сил хватило. Не могу сказать, что политика меня не интересует, но я всегда сторонился ее веяний — хотя был народным депутатом СССР. Нет у меня общественного темперамента и желания провозглашать что-то с броневика или из-под броневика.
— В чем суть переворота в музыке, совершенного композиторами, которых вы сейчас назвали?
— Странный вопрос. Они — антиподы и по развитию, и по отношению к музыке. Единственное, что я могу утверждать смело — ХХ век показал невероятные возможности именно в таком узком роде деятельности, как музыка, когда при любом взгляде, любом подходе возможны выдающиеся результаты. Хорошо сказал об этом Томас Манн в романе «Доктор Фаустус»: музыка — это то, что всегда можно начать с самого начала. Сейчас кончился век, в мире соседствуют простые, минималистские звучания со сложнейшими комплексами звуков. Все зависит от духовной силы и интеллекта человека, который занимается композицией. Можно снова перечислить композиторов-антиподов, создавших этот сад музыки, несмотря на серьезнейшие различия. Происходящее в искусстве похоже на пресловутое разбегание вселенной — все меньше и меньше согласия, все в разные стороны...
— Принимаете ли вы эксперименты, ведущие к отказу от музыки, наподобие «музыки молчания» Кейджа?
— Это нормально. Кейдж не смотрел на музыку как на чисто звуковое искусство. Состояние тишины можно творить и музыкально. Та же «Лунная соната» Бетховена — это попытка создания тишины с помощью звуков. Можно создать и настоящую тишину, — ведь ее как таковой для человека не бывает. Пусть каждый выбирает, что ему нравится. Одному достаточно только звукового материала, другому этого мало, — привлекает дополнительные средства. Слава тебе, Господи, что не одно и то же происходит.
— Возвратимся к мирской прозе: любите ли вы писать на заказ?
— Великие писали только под заказ, не знаю, кто выдумал, что от вдохновения; это была советская романтика. Что такое заказ для композитора? Это его работа. Например, у Баха в контракте было указано, что он должен в определенный срок написать сочинение. Если не напишет, его выгонят с работы. Бетховен только на это жил. Моцарт — тоже. Когда у нас рухнул один режим и не создался другой, над многими профессиями навис вопрос выживания, потому что заказ превратился в Фату Моргану, несбыточную мечту. Я всю жизнь работаю на заказах. Это может быть работа за деньги или ради исполнения: допустим, мой знакомый, выдающийся скрипач, просит написать для него концерт. Да и в прошлом не попадалось плохих заказов, кроме специальных, когда требуют песню о Ленине или Сталине. Смешно, когда опус посвящают XXIII или XXV съезду, но то была своего рода игра. Впрочем, я не знаю, насколько нынешнее общество лучше прежнего. Не за это боролись мои коллеги…
— Одним словом, чем больше заказа, тем лучше.
— Желательно не только для меня, но и для других, чтобы можно было скромно выбирать из двух одно. Мои самые экспериментальные вещи написаны на заказ. Это желанное и благое дело для всех композиторов, на Западе в том числе — востребованность, ощущение, что ты еще кому-то нужен. И не верьте тем, кто это отрицает.
— А есть ли для вас противоречие между количеством и качеством музыки? Ведь пишете-то много.
— Ну, это кажется, что много. Случаются просто жуткие ситуации, когда не можешь и руки поднять. У меня это происходит вспышками. Бывают такие периоды… Прошлый год выдался черный, — настолько тяжелое состояние на меня навалилось, переработался, что ли... Я еле-еле, с трудом сделал то, что обязан был сделать — выхода не было! Будь я исполнителем, жилось бы легче. На Западе, особенно в Америке, если ты не исполнитель, можешь вешаться сразу, потому что на серьезной музыке ни копейки не заработаешь, если не имеешь имени. И даже имя — не гарантия. Сам Стравинский полгода сочинял, полгода дирижировал. У нас, понятно, такой системы нет, отсутствует даже закон об авторском праве. И если не иметь элементарные заказы, то ты как композитор обречен. Это никому не нужная профессия. А что касается количества… Я всю жизнь старался работать постоянно. Если я не работаю день — считаю его потерянным. Мог бы написать в пять раз больше, была б на то Господня воля. Телевизор, наша экономическая жизнь много времени забирают.
— Согласились ли бы вы, в таком случае, на башню из слоновой кости — есть все необходимое, сидите, творите, ничто вас не тревожит?
— Да так и живу. Не только мне, но и моим коллегам немного надо. Большинство тех, кого я знаю, так и закрываются на хлебе и воде, для них достаточно, чтобы желать еще, поверьте. Конечно, были бы условия, то на кой черт мне ходить на работу. Другое дело, что слава и признание, если ты их добиваешься, идут бок о бок с финансами. А башня из слоновой кости — сейчас, при компьютерах, такого понятия нет.
— Вы много писали для театра и кино. Расскажите об этом.
— Для театра — мало. Работа в театре поглощает целиком, надо ходить на репетиции, вникать в процесс. Если бы не кино, не знаю, как бы жил. Кино давало заработок, я ни от кого не зависел, никому не подчинялся, жил как профессионал. В то время это была очень хорошая работа. Но уровень тогдашних кинорежиссеров был достоин сожаления. Смотрю те фильмы со стыдом: звук плохой, ничего не слышно. Те, кто работал в кино, это знают. И поныне жалко времени, потерянного на отвратительной аппаратуре, в отвратительной записи. Тогда фактически не знали американский кинематограф, где есть профессиональное качество звука. Сейчас положение лучше, но уже кино нет. Мне удалось в одном фильме, в «Изгое», в 1990 году, поработать более-менее, как я хотел, на новой технике. А так много сил уходило понапрасну, потому что культура воспитания наших режиссеров в том, что касается важнейшего музыкального компонента, оставляла желать много лучшего.
— А вы пытались диктовать свои условия?
— Начнешь диктовать — потеряешь работу. Пойди, вон, с Мащенко поговори, попробуй. Я с ним никогда не работаю, потому что знаю, — бессмысленно. Он барин, хозяин, все! Да дело же даже не в этом, это его право, но человек же должен знать! Вы посмотрите, кого брал Феллини, — Нино Рота, который писал прекрасные душещипательные мелодии, и сколько лет прошло, а они до сих пор отлично звучат. Если бы Феллини их «давил» некачественным звуком, что бы это было? Замечательный кинокомпозитор Эдуард Артемьев — с кем он работает? С Тарковским, с людьми, которые ему верят и знают его. Культура подачи музыки очень и очень зависит от режиссера. Звук ныне совершенно другой. Но сейчас-то уже старость. Тем не менее, кино сыграло огромную роль в моей жизни, и очень жаль, что многие мои коллеги лишены этой возможности.
— Часто ли вы конфликтуете с исполнителями вашей музыки?
— Опять же, как правило, конфликты бывают на киностудии. В основном я работаю с выдающимися музыкантами, и мне в этом смысле повезло: очень интересные, достаточно молодые дирижеры. В первую очередь — одна из надежд нашей сцены Владимир Сиренко, дирижер Национального симфонического оркестра Украины, и его поколение, его круг. Так что здесь ни с кем конфликтовать не доводилось.
— Чем обусловлены ваши произведения на еврейскую тему?
— Меня пригласили композитором на фильм «Изгой» — очень серьезная работа, там требовалось много музыки. Я подробно изучил еврейский фольклор, а Павлычко сложил текст по специальному переводу канонического Каддиша. Так это перешло в «Каддиш-реквием». Потом, по просьбе американского оркестра, я сочинил «Хануку» (на темы еврейских песен), но здесь она еще не исполнялась. К сожалению, и «Каддиш-реквием» редко исполняется, ибо требует серьезных организационных усилий: большого состава оркестра, хора, солистов, что ныне очень проблематично. Сейчас лучше для 2-3 инструментов писать, тогда есть гарантия, что исполнят. Больше добавить нечего. Я никогда не комментирую написанные сочинения. Написал — и ладно.
— Тогда немного школярский вопрос — что вы испытываете, когда сочиняете, есть ли специфические ощущения?
— Всю гамму человеческих чувств, — начиная с того, что я, грубо говоря, себе голову разбил, кончая восторгом. Почему-то в последнее время восторг все реже приходит, чаще — удрученное состояние, усталость... Некоторые опусы рождаются моментально, а некоторые с трудом, не знаю, почему. Этим, наверно и отличается человек от компьютера. Так что имею массу переживаний: и сопротивление звукового материала, и радость от его преодоления, и неожиданные, неназываемые моменты. Единственно, не надо таких высокопарных слов, как озарение. Оно случалось, может быть, у великих людей, и крайне редко.
— А бывает, что партитура снится?
— Партитура — чепуха. Партитура — конечный, автоматический результат для композитора. Вот когда слышишь музыку — это уже все. Впрочем, нет, — человек не может слышать музыку целиком. Но возможно полностью составить представление о ней. У меня был пример, — кстати, о «Каддише». Я вечером не знал, что у меня нет времени, — засыпал и слышал что-то, а утром, так странно, — вставал и не был разбит бессонной ночью, мог сочинить огромные куски за очень короткий срок. Да, такие вещи есть; а иногда чувствуешь просто бессилие.
— Но все же, как к вам приходит музыка?
— По-разному. Меня мало интересует, как это происходит. Я в этой комнате годы просидел в качестве секретаря Союза композиторов. Была масса моментов, когда у меня вдруг, во время собрания, возникали какие- то музыкальные идеи, я просто уходил и записывал их. Есть какой-то импульс… Такой загадочный свет — как бы вам сказать… Нечто мистическое возникает, нечасто, в процессе, когда чувствуешь, что не контролируешь себя, словно слышишь то, от чего самому становится не по себе. Я думаю, что это каждый человек, по разным причинам, ощущает в себе. В композиторской работе такое бывает чаще, потому что ты все время сосредоточен; если не сконцентрироваться, невозможно ничего сделать.
— Скажите, а самой музыке присущ какой-то мистический смысл? Например, утверждают, что вы своей Первой камерной симфонией предсказали Чернобыль.
— Не могу сказать, что я задавался особой целью. Это сложно говорить. Вот Глоба — предвосхищает или много говорит? По-моему, он много говорит. И все мы так. Возвращаясь к предсказаниям, — все возможно. Но это может быть случайное совпадение, как мираж — сколько миражей люди в пустыне видят, а один вдруг совпадает. К сожалению, катастрофу легче предугадать, чем какую-то большую радость на земле.
— Хочется еще продолжить эзотерическую тему. Насколько я знаю, ваша «Музыка для небесных музыкантов» была вдохновлена тибетской Книгой мертвых. Почему?
— Так получилось. Я прочитал эту книгу и не могу сказать, что был в шоке, потому что уже знал подобное. Это не является чем-то таким… Это сугубо личностное, предназначенное для себя, для внутреннего пользования.
— А какие мелодии могли бы, по-вашему, звучать на небесах?
— Никто не знает, и не узнает до тех пор, пока туда не попадет. А связи с небесами еще нет — и долгое время не будет.
— Не в том ли причина, что музыка ушедшего ХХ века — и ваша, в том числе — имеет столь сильную драматическую, даже трагическую окраску?
— Это единственный, наверное, способ как-то создать свою звуковую матрицу. От музыки прошлого осталось не только великое умение благостно выстраивать звуки в ряд, как у Моцарта. Мы можем лишь подражать ему, поскольку утеряли его ощущение мира. Это и есть самое важное в музыке, — экспрессивное звуковое мироощущение, попытка запечатлеть уникальность, сиюминутность исчезающего времени, из-за этого люди и играют спустя сотни лет Шопена, Моцарта, Баха. Чем больше человек познает мир, тем больше в нем меняется представление…
— Как сказал Сенека, познание умножает скорбь…
— Да, но тогда об этом знали единицы. Мы возвращаемся к тому же. Время никто не может остановить или возвратить вспять, — иначе прекратится всякая жизнь на земле. В этом есть и трагедия, и восхищение — что хотите. Называйте это беспрерывным движением времени. Оно, очень сильно изменяя мир, переводит все деяния человека, будь то музыка или что иное — в другую плоскость оценок: что за этим стоит.
— Тогда что или кто занимает ваше время не меньше, чем музыка?
— Родные мне люди, друзья, с которыми я прожил жизнь. Но это взаимосвязано, так что здесь, наверное, не стоит отделять.
— Вопрос о хобби, тем не менее, напрашивается сам собой.
— О, я много спортом занимался. И футбол люблю, и все остальные виды…
— А в каком виде добились успехов?
— Мне стыдно об этом говорить. Так давно было, что как-то даже не по себе. Немного, но довольно активно занимался спортом в молодости. В те годы многие, по крайней мере, мое окружение, делали это с не меньшим удовольствием, чем пили, потом второе как-то стало преобладать, а сейчас уже финиш подходит.
— Все-таки вы многогранно живете — и спорт, и музыка…
— Это все в детстве. Ныне я старый и очень скудный. А тогда казалось, что времени много на все. Сейчас-то, по-моему, я уже ничего не хочу, а раньше еще и пытался изучать философские направления, жутко много читал разной литературы, притом не только художественной — физикой занимался, математикой. Это меня очень интересовало, тем более что и отец мой математик, и брат с сестрой — физики, я один музыкант — отщепенец. Карл Маркс был прав — бытие определяет сознание. Если в семье занимались физикой, так хочешь, не хочешь, займешься …
— В конце концов, каждый, так или иначе, стремится туда, где осуществятся все его прихоти, мечты, что угодно… Достигли ли вы своей комнаты желаний?
— Кроме того, что я сказал, — я еще ищу. Делаю попытки. Потому что то, что я имею, как мне кажется, еще нуждается в коррекции. Надеюсь, что это если и не осуществится, то увижу — хотя бы краем глаза.
Выпуск газеты №:
№41, (2001)Section
Общество





