«Тогда не было апельсинов, но присутствовала хорошая атмосфера среди людей»
Витольд Шабловский — о полугодовом путешествии в коммунистическое прошлое, дефиците общения, функции журналиста, а также о своей любви к Украине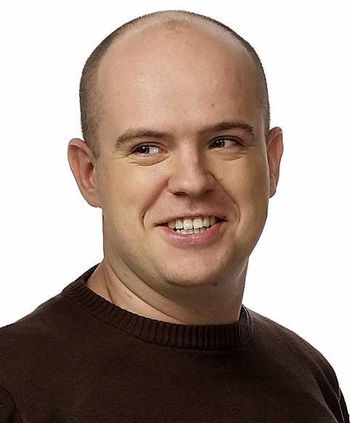
Репортер «Газеты Выборчей» Витольд Шабловский на ХХ Форуме издателей во Львове представил украинский перевод книги «Наша маленькая ПНР» (переводчик — Андрей Бондарь), которую написал в соавторстве с женой Изой Мейзой. Супруги пытались воссоздать на полгода Польскую Народную Республику в пределах своей семьи. Об этом уникальном опыте, своем видении украинско-польских отношений, а также о будущих книгах писатель рассказал в эксклюзивном интервью «Дню».
— Как возникла идея создания книги? Долго ли вы готовились морально и физически к такому перевоплощению?
— Готовились год, потому что нужно было собрать одежду, купить автомобиль, запустить волосы, поскольку обычно стригусь коротко. Отращивал их на протяжении восьми месяцев. В ПНР короткую стрижку носили только люди, у которых были проблемы с законом или военные. Я же в последний раз носил длинные волосы, когда был 17-летним. Знакомые, которые не знали о проекте, удивлялись и говорили, что эта прическа мне не очень подходит. «Спокойно- спокойно! Всему свое время — увидите», — был мой ответ. Стоит отметить, что мы с женой еще были маленькими во времена ПНР и мало что помним из того периода — мне было лишь девять лет, когда это государство исчезло. Помню, тогда не было апельсинов, но был хороший климат между людьми. В целом хорошее было у меня ПНРовское детство. Я не понимал тогда, как в действительности тяжело жилось людям. Не было такого, как ныне, при капитализме, когда ты берешь деньги, идешь в магазин и покупаешь все, что тебе нужно. Получение продуктов питания — это был целый процесс. Нужно было знать продавщицу лично. Если ты ее не знал, приходилось искать общих знакомых, находить пути, чтобы познакомиться с ней. Продавец — это была лучшая профессия в ПНР. Этому всему мы с женой должны были научиться.
К счастью, люди в те времена ничего не выбрасывали, потому что купить что-то было трудно. Например, от моего деда осталась машинка для бритья, пролежала десятки лет. Я его спрашивал, зачем она ему, а он настаивал, что, может, для чего-то еще пригодится. Делал когда-то материал о кризисе — разговаривал о нем с бездомными в Варшаве, а они мне: «Пан, какой кризис? Я ноутбук нашел на мусорнике». О каком кризисе идет речь, когда люди ничего не ремонтируют, а все выбрасывают! У моих родителей был полный подвал с такими вещами, а у родителей жены — весь чердак, поэтому нам оставалось только приехать и те вещи забрать.
— Ваш ребенок тоже стал участником эксперимента?
— Наш ребенок немного цыганский — каждую весну проводит в другом лагере, ездит то к одной бабушке, то к другой. Мы и сами часто выезжаем, бываем в разных местах. По-видимому, поэтому наша дочка восприняла все это нормально — решила, что мы просто переехали в очередную гостиницу. Для нее это действо было даже интересным. Теперь она, по-видимому, единственная из нас всех, кто грустит по ПНР — у нее там была хорошая жизнь. Хотя ей тогда было только два года, а теперь — четыре, дочка убеждает, что все помнит. Как-то перекладывал одежду, а малышка говорит: «О, так это блузка из ПНР!». Я спрашиваю, помнит ли она еще что-то из тех времен, а она говорит: «Помню, что там не было апельсинов». Ну, это самое важное! Памперсы мы не использовали — только старые пеленки. Одевали дочку в старомодные блузочки, сандалии. Хорошо, что она не ходила в садик — думаю, дети смеялись бы над ней.
— Работа над книгой продолжалась во время самого эксперимента? Как отнеслись к нему ваши родственники, друзья?
— У нас была большая записная книжка, в которой мы делали заметки. Но писать книгу возможности не было, поскольку компьютеры мы не использовали, а ни один издатель не принял бы рукописи. Ближайшие знакомые знали об эксперименте и считали нас ненормальными — надеялись, что в какой-то момент мы успокоимся и оставим его. Как-то нас пригласили на телевидение рассказать о нашей ПНРовской жизни. Одна известная польская писательница тогда подала нам руку, а затем через полгода призналась мне, что сначала ей показалось, будто в студию пригласили каких-то бедняков, чтобы они рассказали о своих проблемах. Люди нас принимали за бедняков. Но были в этом и позитивные моменты: кто-то принес нам одежду для ребенка, кто-то подарил билет на автобус. Для меня стало приятным открытием, что люди сегодня готовы помогать тем, кому повезло меньше.
— А смешные случаи бывали?
— Во времена ПНР люди, когда заходили в магазин, сразу интересовались, что сейчас привезли, потому что разложить товар на полках продавцы не успевали — все сразу разметали. Мы тоже попробовали спросить — все смотрели на нас, как на инопланетян. Лишь одна продавщица все поняла и сказала подруге: «Смотри, господа спрашивают, что привезли — как в ПНР спрашивали!» «Все привезли и сразу — в том и проблема!» — ответила ей коллега, спрятав руки в передник. Еще в те времена был дефицит с туалетной бумагой, поэтому, когда кто-то шел с ней по улице, мы подходили и спрашивали, где пан или пани это купили. Половина людей хватались за головы, кто-то пытался убежать, но нам нужен был человек, который среагирует адекватно и расскажет что-то интересное о жизни в ПНР. Один пенсионер пожаловался, какая туалетная бумага при капитализме стала плохой, что она, мол, разлазится в руках. В ПНР, говорит, бумаги хотя было мало, но когда была, то уже хорошая. Вот это было самым смешным.
— Как происходило ваше «возвращение»?
— Это был замечательный момент! Можно было, наконец, выпить кофе и съесть что-то хорошее.
— Было ли что-то такое в те времена, что стоило бы вернуть?
— Сегодня мы разучились общаться друг с другом. Когда-то заговорить к незнакомому человеку в транспорте считалось нормальным. Еще до недавнего времени было немыслимым зайти в купе в поезде и не поздороваться с соседом — тебя назвали бы невоспитанным. При коммунизме такое общение считалось нормой, а теперь это — «small talking» (светская беседа). На мой взгляд, сегодня у людей много разных гаджетов, которые, в действительности, только мешают нам общаться. Мы очень активны в Facebook, в Интернете, но беспомощны в обычных жизненных ситуациях — не можем спросить у прохожего на улице: «Который час?» В ПНР все вертелось вокруг личного общения. Ныне, если не хочешь видеть продавца, можешь заказать все необходимое в сети, работать тоже можно дома через Интернет. Мой коллега однажды просто прекратил приходить на работу. Он даже не пришел сказать «до свидания», я уже не говорю о какой-то прощальной вечеринке. По моему мнению, это определенный симптом нашего общества. В ПНР у нас не было Интернета, а теперь, думаю, нам не помешала бы кнопка, которая бы выключала его для всех на время.
— Ришард Капусцинский говорил, что репортер должен быть добрым: «Только доброму человеку под силу понять других, их намерения, веру, интересы, трудности и трагедии, и сразу, с первой минуты, стать частицей их судьбы». Можете ли продолжить ряд качеств, которыми должен обладать настоящий журналист?
— Очевидно, что репортер должен быть добрым человеком, поскольку мы часто работаем с очень глубокими эмоциями. Нужно быть максимально искренним и сделать все, чтобы не обидеть человека, о котором пишешь. Порой репортер вынужден выполнять функции психотерапевта, к чему не всегда готов. Когда я писал текст о проститутках в Турции, то это была настоящая психотерапия. Я просто сидел 12 часов и слушал, а те две бедные девушки все время плакали, а я не имел права на эмоции — сказал себе, что должен их «холодно» выслушать. Это они могут плакать, а я — нет.
— Какие еще страны планируете посетить?
— Хочу поехать в Эквадор. Там есть около 100 племен, у которых еще не было контакта с цивилизацией. Они даже не догадываются, что мы существуем, не слышали никогда не только об Интернете или телефонах — даже о джинсах и футболках. Некоторые племена еще даже не изобрели колеса. В то же время у них есть свое, другое богатство — каждое племя имеет собственный язык, культуру, богов.
— Ваша жена говорила, что журналист не должен изменять мир или людей, мол, его функция — понять. Пытались ли вы понять Украину?
— Я был очень раздражен из-за дискуссии о Волыни. В тех краях собирал истории украинцев, которые спасали жизнь полякам, и рассказы поляков, которые помогали украинцам, а также известия обо всех, кто прятал евреев в 1942 году. Надеюсь, мне удастся сделать из этого книгу. Есть история одной пани, которая погибла во время масакры. Она была полячкой, и у нее был годовалый ребенок, жизнь которого спасли украинцы. Эти люди воспитали ее дочь как собственную. Ныне, через 70 лет ищем ее семью в Польше. Эта женщина никогда не имела контактов с поляками — я был первым, с которым она разговаривала. Недавно был у нее в гостях с одной пани — все указывает на то, что она — ее родная сестра. Планирую об этом написать, но не хочу, чтобы это была книга о «Волынской резне», не хочу выяснять был это геноцид или нет. Вообще хотелось бы понять, почему наши народы все время то отталкиваются, то притягиваются друг к другу. Польша и Украина — как старые супруги, которые терпеть друг друга не могут и каждый день говорят о разводе, но в то же время понимает, что жить врозь не смогут. Возможно, когда-то тоже напишу об этом книгу.
Я очень люблю Украину — не могу сюда не приезжать, люблю ваши пейзажи, кухню, люблю ваших людей. Если год меня здесь не было, надо брать автомобиль и ехать. Придется отстоять три часа на границе, но понимаю, что у вас условия значительно хуже, ведь украинцев заставляют еще и ожидать визы. Считаю, что это — большой стыд для Польши. Мы постоянно пытаемся как-то повлиять на наших дипломатов, чтобы изменить ситуацию. Выдвигаем апелляции к Министерству иностранных дел, устраиваем разные акции, но пока — безрезультатно. Мне как поляку очень досадно из-за этого.
Выпуск газеты №:
№229, (2013)Section
Украинцы - читайте!





