С Амосовым – снова на фронте
Об актуальности недавно переизданной книги «ППГ-2266. Записки военного хирурга»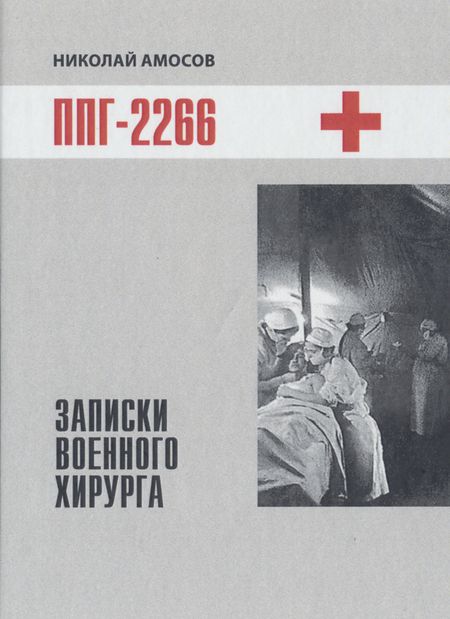
«Посвящается врачам АТО, всем, кто оказывает медицинскую помощь в больницах и на поле боя» — под таким девизом, по решению Киевского городского профсоюза работников здравоохранения, при содействии издательства «Авіцена», недавно переиздана книга Николая Михайловича Амосова «ППГ-2266. Записки военного хирурга». Она впервые увидела свет в 1975 году. «С первых дней войны Амосов был назначен ведущим хирургом полевого подвижного госпиталя «на конной тяге», — пишет Екатерина Николаевна Амосова. — За время войны пять хирургов на 200 койках прооперировали 40 тысяч раненых! Воевал в действующей армии на Западном фронте до 1945 года и на Дальневосточном фронте в 1946 году. Все это время Н. М. вел записи о работе госпиталя в толстом журнале (он сохранился и находится в архиве АН Украины), на основе которых написал книгу воспоминаний».
* * *
И вот сегодня пережитое и изложенное оказалось вновь остро востребованным. Суровая и даже кровоточащая книга, в сущности, учит, какой должна быть медицина, особенно если идут сражения. Начнем с нескольких строк, возвращающих мир к преддверию битвы на Орловско-Курской дуге. «К сожалению, все эти сложные способы ушивания, отсосы, вмешательства на легком: нет времени для сложных операций... Сознание этого убивает. Не должно быть такого! Если военачальники имеют возможность маневра, санитарная служба тоже должна его иметь. Раненых спасать можно и самых тяжелых — вот к какому выводу приходишь на исходе второго года войны. Военная хирургия недостаточно еще разработана: примеры — «бедра», «коленки», «грудь». Даже шок...»
Но примерно к этому же времени относится и иная запись, собственно, показывающая душу и сердце тридцатилетнего хирурга: «Сделал отличную операцию аневризмы правой подключичной артерии — раненый был совершенно на грани гибели. Гемоглобин — восемнадцать процентов! Без меня были здесь Вася Лысак (хирург-инспектор из вышестоящего подразделения. — Ю. В.) и армейский хирург профессор Д. Показывала Лида (операционная сестра Л. В. Денисенко, в скором будущем жена Н. М. Амосова. — Ю. В.). Отказались оперировать. «Отправляйте самолетом». А какая отправка, если у него из ранки постоянно сочится кровь и температура 39. Мальчишка еще — боец Егоров, 19 лет. Все прилично сделал, трудно было и очень страшно...»
Ветерану той войны Егорову, если он жив, сейчас близится старт десятого десятка лет. Один из тысяч и тысяч, спасенных Амосовым и такими, как он.
И еще строки из главы «Наступление»: «Отшумела работа. Эвакуировали раненых. Помогала авиация — очень удобно! Почему их мало, самолетов? Опять я пытаюсь размышлять. Говорят, есть большая правда о войне и маленькая. Маленькая — восприятие участников: солдат или, например, врачей. Они не всегда совпадают, эти правды. Могут сказать, что по большой правде невозможно было сделать тысячу «кукурузников» для санитарной авиации, что если бы ее сделали в ущерб сотне истребителей, то войну бы не выиграть. Может быть, только они необходимы, эти «кукурузники»...
Несомненно, писателями рождаются. Все пятнадцать глав этой честной искренней книги, от истоков событий, когда молодой врач-хирург в провинциальном Череповце в военкоматской медицинской комиссии участвует в призыве мобилизованных, до последней ампутации девушке-разведчице, которой, из-за сепсиса, очевидно, не выжить — выстраданная документальная хронология невероятных по напряжению госпитальных дней и ночей и вместе с тем большая литература. Странное дело, все 207 страниц нового издания, как и предшествовавших «ППГ-2266», легендарных «Мыслей и сердца», а это ведь почти непрерывные концентраты медицинских подробностей и даже терминов, читаются со жгучим неотрывным интересом. Нельзя не привести хотя бы еще нескольких отрывков:
«Вот они идут передо мной — защитники Отечества. От 20 до 35. Колхозники из пригородных деревень. Рабочие нашей промышленности — лесопилки, пристаней, леспромхоза... Они мне знакомы — по больнице, по прошлым переосвидетельствам, просто по улице. Плохо одетые, но не запущенные, в чистых рубахах. В большинстве худые. Хмурые. Слов не говорят. Собрались на тяжкую работу. Нужно. Надо идти. Они раздеваются у входа в класс... Кладут на пол свои холщовые мешки или фанерные чемоданчики, снимают латаные сапоги или матерчатые туфли, брюки и пиджаки из «чертовой кожи», домотканые холщовые порты и подходят к доктору, прикрывая ладонями стыдные места. Голый человек совсем безоружен...»
И амосовский плач о последней пациентке в мае сорок пятого:
«— Зоя, Зоечка!
Чуть приоткрыла веки. Облизала сухие губы.
— П-и-ть!..
— Зоя, Германия капитулировала! Поздравляю тебя с победой!
Оживилась, улыбнулась болезненной робкой улыбкой. Слеза поползла из угла глаза по виску вниз.
— Позд-р-а-в-ляю... и вас поздравляю... Дождалась... Теперь бы поправиться...
Сел около нее на кровать, взял руку, тонкую, бледную, бескровную с грубой кожей на ладони, с короткими неровными ногтями...
Говорил, утешал...
— Ты усни, Зоечка. Набирайся сил...
И она уснула.
К вечеру был еще один озноб, после которого полный упадок сил и сердечная слабость... Ничего сделать не смогли. Умерла...
Это была последняя смерть в нашем госпитале. И оттого особенно обидная и печальная.
Но все вокруг так переполнилось счастьем, что ничем не затмить радость. Просто не верилось: «Уже не убивают!»
И немного об упомянутых «бедрах», «коленках», «груди». Именно на фронте проявился ярчайший феномен Амосова как страстного преобразователя в хирургии, отсюда, по сути, пошло и «сердце».
Борясь со смертностью, Николай Михайлович видоизменил тактику лечения при ранениях коленных суставов, потом при поражении бедренного сустава, ранениях грудной клетки. Добавив, в частности, к методике гипсования, из школы С. С. Юдина, свои обоснованные хирургические приемы. Предложения из рядового полевого госпиталя получили распространение. Если вдуматься, Амосов тут шел непосредственно и за Пироговым, стоит вчитаться в «Севастопольские письма» этого великого наставника.
И в это же время Амосов сдал в Москве кандидатские экзамены и представил к защите диссертацию — о модернизациях при лечении ранений в коленные суставы. «Да-да, в 1-й Московский медицинский институт, не куда-нибудь. Секретарь поморщилась, увидев мою конторскую книгу, написанную фиолетовыми чернилами. «Я еще не видела такой диссертации... Неужели нельзя на машинке?» Упросил: с фронта!»
К сожалению, на диссертацию рецензент профессор Силищев дал отрицательную рецензию. Но «рефлекс совершенствований» уже жил в хирурге. В заключительной главе есть строки: «Еще я писал научные работы. Целых восемь. «Бедро, тазовая, переливание крови, вторичные кровотечения, две статьи о ранениях груди, две статьи о «коленках». Они и сейчас у меня хранятся. Прочитал — вполне приличные статьи, с хорошей статистикой. Никуда их не посылал, не рискнул после неудачи с диссертацией».
Госпиталь по штату на 200 коек. «Надежды маленький оркестрик»... Но еще запись: «К 23 ноября (1944 г. — Ю. В.) число раненых достигло 2 350. Из них полтораста — в команде выздоравливающих, но это единственные «ходячие». Нет, мы не потонули в смысле хирургии. Только благодаря отличным сестрам и правильной сортировке. Не зря восемь колхозных подвод целый день перевозили раненых с места на место. Нам удавалось вылавливать всех отяжелевших и собирать их в основные помещения, где был постоянный врачебный надзор. За все время в домах умерло двое, и один был просмотренный случай газовой флегмоны: раненого доставили в перевязочную уже без пульса».
Простыми, примечательными словами, своим истовым видением жизни Николай Михайлович заключает и свою фронтовую сагу:
«Вот какие свои записки, писанные в Эльбинге в мае 1945-го, нашел я среди черновиков научных работ. Да, о героизме. Какой героизм можно увидеть в полевом госпитале? Немец нас не окружал, в атаку наши санитары и выздоравливающие не ходили... За всю войну мне не довелось быть свидетелем броских, героических поступков. Кроме того отчаянного летчика в октябре 1941-го в Сухиничах. Но я видел другой, повседневный, ежечасный героизм, видел массовое мужество. Уж чего-чего, а этого насмотрелся. Нужно мужество, чтобы переносить страдания». Следует лишь добавить, что мужество не покидало и Амосова. «Будь тверд и мужественен» — сказано в Слове. Это и о нем.
— Киевские его последователи, а наша организация объединяет в своих рядах наиболее значительный отряд столичных медиков, фармацевтов, других знатоков и патриотов порученного дела, — это и одна из милосердных сил в нынешней обстановке, в том числе в военных условиях, — говорит председатель городского профсоюза работников здравоохранения, врач-инфекционист по первичной специализации и большому практическому опыту Лариса Вячеславовна Канаровская. Профсоюзный актив пришел к мысли: нестареющая книга о долге на войне учит силе духа. Поэтому она вновь появилась.
Выпуск газеты №:
№204, (2014)Section
Общество





