Четвертая боевая среда
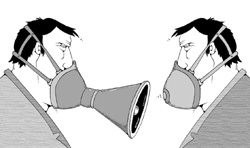
ИНФОРМАЦИОННЫЙ «ШОК И ТРЕПЕТ»: ПРЕДЫСТОРИЯ
В дальнейшем концепция информационного противостояния стремительно эволюционировала, особенно после операции «Буря в пустыне» в 1991 году, где новые технологии впервые прошли «обкатку» в условиях реальных боевых действий.
Информационная война ведется любой страной, у которой есть армия, и в мирное, и в военное время. Информационное, или психологическое, противостояние — необходимая составляющая любой военной кампании. Однако формирование еще одной, кроме суши, воздуха и воды, среды боевых действий — информационной — явление, характерное для конца ХХ века.
Тезис об информационной сущности современных войн витает в воздухе уже более 20 лет. Западные эксперты и военные аналитики давно говорят о том, что страна, создавшая решающий перевес в информационной среде, обретает тактические преимущества над противником, сравнимые лишь с монопольным обладанием оружием массового уничтожения. Многие из них полагают, что тактика «генеральных сражений» (с характерными для нее противостоянием армий и массовыми человеческими жертвами) очень скоро займет свое место на свалке истории рядом со шпагами и средневековыми доспехами. Успех военной кампании будет во многом определяться победами в бескровных сражениях в информационной боевой среде.
Современная цивилизация за свою высокотехнологичность и мобильность вынуждена расплачиваться информационной зависимостью и уязвимостью. Постоянный рост «информационных скоростей» и формирование глобального информационного пространства в десятки раз увеличили эффективность новых технологий прессинга, зачастую отводя военному вмешательству роль последнего аргумента.
Информационные технологии, все чаще используюемые в военных целях, постепенно меняют формат самих войн, перенося тяжесть военных операций в плоскость информационного противостояния. Приоритетное значение приобретает «борьба за умы», сражение за сознание людей и контроль над информационными потоками.
«Информационная война» — это технологический комплекс психологических воздействий, осуществляемых с целью изменения массового сознания и формирования необходимого общественного мнения либо стереотипов массового поведения. На данный момент, несмотря на колоссальные темпы развития информационных технологий, наиболее эффективным инструментом ведения информационной войны и влияния на массовое сознание остаются «обычные» СМИ — в первую очередь телевидение, радио и печатные медиа.
Активная внешняя политика Соединенных Штатов, которые после Второй мировой войны начали выходить на мировую арену в качестве нового глобального игрока, зачастую наталкивалась на непонимание рядовых налогоплательщиков и избирателей. Наследие традиционной для американцев изоляционистской психологии и пацифистский социальный климат были существенным препятствием на пути элит, ориентированных на расширение зоны экономического и геополитического влияния страны.
Жесткая информационная политика Пентагона, заключавшаяся в строго «дозированной» и выборочной подаче информации для СМИ, только усугубляла ситуацию и часто давала обратный эффект. Антивоенные настроения достигали пиковых отметок, выражаясь во всплесках пацифизма и приводя к болезненным рецидивам старого «недуга» — американского изоляционизма. Но статус всемирного борца за демократию предполагал, наряду с международной, широкую общественную поддержку. Ведь Соединенные Штаты еще на примере Вьетнамской войны убедились, что вести войну на территории чужой страны без поддержки внутри собственной практически невозможно. Наверное, именно поэтому военная информационная доктрина была кардинально пересмотрена. Специалистами Пентагона после серии масштабных исследований была разработана новая концепция взаимодействия со средствами массовой информации, суть которой состоит как раз в максимальном подключении СМИ. Другое дело, что круг этих медиа ограничен группой привилегированных телекомпаний, газет и журналистов, наделенных приоритетным «допуском» к информации и освещению миротворческих операций. Во время иракской кампании круг «информационных монополистов» был сужен до нескольких суперлояльных по отношению к президенту и его окружению СМИ.
«Избранные» медиа, формируя заданную новостную конъюнктуру, выполняют ряд стратегических задач, в числе которых, наряду с подавлением воли противника, — конструирование общественного мнения, обеспечивающего общественную поддержку военной операции и обоснование военного вмешательства на международной арене.
Первая военная операция, где одним из ключевых элементов была заранее разработанная и четко скоординированная стратегия медиа-сопровождения, — «Буря в пустыне». Тогда впервые была применена технология трансляции боевых действий в реальном времени. С тех пор информационная составляющая военных кампаний постоянно усиливалась и приобретала все большее влияние на исход конфликтов. Миротворческие акции последних лет получили новое смысловое наполнение — помимо всего прочего, они приобретают характер своеобразных «новостных сериалов» со своими заранее заданными «хорошими» и «плохими парнями», свойственной голливудским «хитам» героикой и классической сюжетной линией с традиционной победой «сил добра» над «силами зла».
Это в полной мере относится и к последней операции в Ираке. Однако можно выделить ряд критериев, кардинально отличающих иракскую войну от предыдущих. Во-первых, никогда еще информационное противостояние не достигало такой остроты (как со стороны США, так и со стороны Ирака). С другой стороны, никогда так очевидно не просматривалась заданность общего информационного контента. Уже в начале военной операции большинство западных телекомпаний получили рекомендации от представителей американской армии, основным пунктом которых была настойчивая просьба не выпускать в эфир кадры, где бойцы сил вторжения предстают в неподобающем для завтрашних победителей виде. По утверждению западных журналистов, освещавших и «Бурю в пустыне», и «Шок и трепет», во время последней операции они гораздо сильнее ощущали контроль со стороны американской военной администрации.
СЛЕДСТВИЯ «ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»
Мы не побеждаем, пока CNN не сообщает о том, что мы побеждаем.
Информацией правит заданность — этот постулат в полной мере отражает то, что происходило в международном информационном пространстве во время иракского кризиса. Журналисты, работающие в зоне боевых действий, часто говорят о том, что первой жертвой любой войны становится правда. Но в случае с Ираком правда умерла еще задолго до начала военных действий.
Началу операции в Ираке предшествовала длительная информационная «прелюдия». В момент пересечения армией вторжения иракских границ противники были в состоянии информационной войны уже не один месяц. В этот момент информационное противостояние достигло своего первого пика, что повторялось на протяжении всей войны не раз.
Обеспечение международной легитимации военного вмешательства не было приоритетной задачей американских военных и средств массовой информации — об этом позволяет говорить анализ технологий информационного прессинга, применявшихся как по отношению к Ираку, так и по отношению к «коллегам» по Североатлантическому альянсу. Заявления высокопоставленных военных чиновников США о готовности в случае необходимости решить «иракский вопрос» в одностороннем порядке стали основным лейтмотивом новостного контента на протяжении «подготовительного периода». Судя по всему, главная ставка была действительно сделана на формирование позитивного общественного мнения и достижение максимальной поддержки внутри собственной страны.
Формирование «антииракского» (или, скорее, «антисаддамовского») общественного мнения началось задолго до кризиса и актуализации «иракской проблемы» в американском обществе. Объективно этому способствовали и события последних двух лет. Теракты 11 сентября стали беспрецедентным карт- бланшем в руках американских военных ведомств и спецслужб, обеспечив им огромный кредит доверия со стороны рядовых американцев, впервые столкнувшихся с реальной угрозой национальной и личной безопасности. Кроме того, и в глазах мирового сообщества любые действия Соединенных Штатов выглядели оправданными, а борьба с международным терроризмом и нарушителями санкций ООН стали убедительным оправданием силовых практик в международных отношениях.
С одной стороны, объективные факторы, с другой — заданные медиа-стратегии большинства СМИ способствовали тому, что в течение последних двух лет острота «террористической фобии» в общественном сознании американцев достигла отметки, которую не удалось преодолеть даже знаменитой «красной угрозе» во времена печально известной «охоты на ведьм». А Джордж Буш, имевший неоднозначную репутацию как в элитной, так и в обывательской среде, превратился в «отца нации», имеющего беспрецедентную электоральную поддержку и колоссальный рейтинг доверия.
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ «РЫНКИ»
Многие социологи говорят о том, что ментальности американцев не свойственна жертвенность, она не принимает человеческих жертв во имя чего бы то ни было. Именно поэтому они традиционно не поддерживают военные операции, в которых армию «миротворцев» постигают неудачи. Человеческие жертвы служат главным «отрезвляющим средством», провоцирующим стихийные проявления пацифизма и антивоенные выступления. Возможно, именно поэтому раньше, применяя старые и достаточно примитивные информационные стратегии, американские военные ведомства скрывали численность человеческих жертв и практиковали банальное замалчивание «невыгодной» информации, касающейся истинного состояния дел.
Похоже, что старые социологические выкладки утеряли актуальность для «новой Америки», и в случае с Ираком мы имеем дело с исключением из правил: даже неудачи первых дней иракской войны не поколебали уверенность американцев в легитимности силового решения иракской проблемы. По данным СNN, после первых неудач 60 % американцев высказались за то, что нужно усилить общенародную поддержку войны, и лишь 20% — против. Подобной поддержкой пользовались и дипломатические маневры американской администрации, и критика чересчур принципиальных европейцев, и прессинг, который оказывали США на Совет Безопасности ООН.
Ни одно из европейских правительств, выступивших на стороне антииракской коалиции, не могло похвастаться подобной поддержкой. Правительства Испании и Великобритании пошли на конфликт с общественным мнением и, взяв на себя ответственность, приняли «внутриэлитное» решение. На этом фоне действия американских военных выглядят как реализация решения, вызревшего в «недрах общества» и одобренного «снизу», что подтверждается 70-процентной поддержкой действий президента Буша американцами.
Во многом это объясняется высоким уровнем доверия американцев к печатному слову и телевидению. Для них не характерно критичное восприятие информации и склонность хотя бы к первичному ее анализу. Вероятно, причина кроется в специфике современной американской культуры. Ведь параллельно с процессом трансформации Соединенных Штатов в супердержаву быстрыми темпами шло формирование так называемого «общества потребления» с соответствующим культурологическим наполнением.
В результате сформировалась современная американская культура, которая в большей степени, чем какая-либо другая, является «телекультурой». Ее «упрощенность» заключается в ориентированности на максимальное удовлетворение потребительского спроса. Ставка делается на «прямое» аудиовизуальное восприятие информации потребителем. Отсюда — яркая и красочная форма подачи, пусть даже в ущерб смысловому наполнению. Такой подход во многом исключает критическое восприятие предлагаемого информационного продукта. Даже американские эксперты вынуждены констатировать тот факт, что за исключением некоторых этнических групп населения США, традиционно уделяющих особое внимание классическому образованию (евреи, американцы азиатского происхождения), система ценностей большинства американских детей формируется массовой индустрией развлечений, не предполагающей развития аналитического или критического мышления. Вполне вероятно, что в этой культурологической плоскости и стоит искать ответ на вопрос, почему американское общественное мнение — одно из самых легкоманипулируемых в мире.
Именно поэтому первый и главный информационный удар американцев был сделан «по своим», а уж затем по Ираку. США зачастую проигрывали информационную войну на «внешнем» фронте, зато всегда выигрывали на «внутреннем». Иракская пропаганда продемонстрировала довольно высокую эффективность и добилась заметных успехов в борьбе за международное общественное мнение. Саддам Хусейн почти всегда выигрывал «внешнюю» информационную войну. Действия же союзников и сам факт военного вмешательства, несанкционированного ООН, в целом вызвал крайне негативную реакцию мировой общественности, несмотря на то, что к постановке ежедневных обращений Пентагона к миру были задействованы лучшие специалисты Голливуда. Однако, судя по всему, на тот момент достижение «положительного сальдо» в общественном мнении за пределами собственной страны не было для американцев приоритетом номер один.
КТО ПОБЕДИЛ?
Основные аргументы в пользу военного вмешательства и главные «силовые линии», по которым союзники осуществляли прессинг на мировое общественное мнение, были следующими:
— наличие у Ирака оружия массового уничтожения и готовность Хусейна его применить;
— режим Хусейна — антидемократичное, тоталитарное государство, широко практикующее нарушение прав человека и репрессии против собственного народа;
— Ирак грубо и систематически нарушает международное законодательство;
— Ирак в ходе военной операции постоянно нарушает международные конвенции о содержании военнопленных («миф о «спасении рядовой Джессики Линч»).
Информационная война Ирака и США вошла в активную фазу после «сенсационных сообщений» о том, что сын Хусейна — Удей — посажен отцом под арест за попытку бежать из страны. Сразу после этого иракское телевидение показало самого Удея, который сидит рядом с отцом и «готов бороться с захватчиками». Буквально через несколько часов были опровергнуты «слухи» о казни Саддамом вице-президента Ирака Тарика Азиза. Это в полной мере касалось численности погибших американских военнослужащих, хода военных действий и результатов операций.
Технология «не подтвердившихся сообщений» из «достоверных источников» использовалась обеими сторонами достаточно часто, однако американцы здесь владели стратегической инициативой на протяжении всей кампании. Скорее всего, подобные практики являлись «импульсными» информационными атаками, имевшими целью достижение кратковременного ситуативного перевеса в информационной борьбе, и не рассматривались в качестве факторов долгосрочного влияния на общественное мнение.
Ирак в большинстве случаев оборонялся, применяя тактику немедленного опровержения сообщений американских СМИ. В этом отношении настоящей проблемой для американского военного командования стала катарская телекомпания «Аль-Джазира», известная своей объективностью и независимой позицией. «Аль-Джазира» передавала огромное количество «нежелательной» для союзников информации. Вынужденную паузу в боевых действиях катарские журналисты объясняли тем, что наступление союзников захлебнулось. «Аль-Джазира» постоянно давала в эфир альтернативную информацию о потерях американцев и британцев, наконец, демонстрировала «нежелательные» кадры из Багдада: дети, раненные во время американского налета и т.д. Основной же формой «внутреннего пиара» в Ираке были постоянные телеобращения Саддама Хусейна к нации, транслировавшиеся как иракскими телекомпаниями, так и катарской «Аль-Джазирой».
Кто же все-таки выиграл информационную войну? Данные социологии говорят о том, что антиамериканизм, бывший и до иракской кампании привычным явлением для многих европейских стран, достиг рекордных показателей. И это говорит о том, что объективно США, выиграв информационную войну внутри страны, пока проигрывают ее практически для всего остального мира.
Но важнее другое. Конструирование нового миропорядка обязательно будет сопровождаться изменениями в структуре глобального информационного пространства. Функциональная роль общественного мнения (являющегося креатурой СМИ) как одного из инструментов влияния на принятие властных стратегических решений, скорее всего, также будет меняться.
Многополярное по своей природе информационное пространство, с присущим ему множеством информационных источников, основных ньюзмейкеров и информационных каналов в условиях однополярного в военно- экономическом отношении мира вряд ли сможет избежать кардинальных трансформаций. На повестке дня — однополярный информационный мир?
Выпуск газеты №:
№127, (2003)Section
Nota bene





