Десять пишем, сто в уме
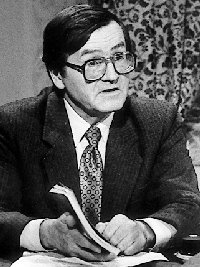
...Назвать «свои» десять книг? Это невозможно: учинить подобную несправедливость в отношении многих десятков других, не менее «своих». Но игра есть игра, и не сам себе устанавливаешь ее правила. Вероятно, инициаторы этой интеллектуальной игры имели в виду, что из спектра индивидуальных симпатий возникнет картина читательских интересов той аудитории, на которую ориентируется газета «День», а это в какой-то степени будет свидетельствовать и о культурном состоянии общества, да и популяризации определенных явлений посодействует. В разные времена моя «десятка» имела бы неодинаковый вид. Скажем, в школьные годы я на первое место поставил бы «Овода» Э.-Л. Войнич, «Как закалялась сталь» Н. Островского, статьи Дмитрия Писарева, «идеолога мыслящего пролетариата», врага всяческой рутины и схоластики, поэзию Николая Некрасова (помните: «От ликующих, праздно болтающих, / Обагряющих руки в крови / Уведи меня в стан погибающих / За великое дело любви»), и Владимира Маяковского; потом пришел Михаил Лермонтов. Сегодня я не называю их, хотя и Писарева идеология, и Некрасова, и Лермонтова, и Маяковского люблю, как и раньше (но из «десятки» они перешли в «сотню»; «приоритеты», понятное дело, менялись и в последующие годы). Не называю и произведения и имена, которые уже названы предыдущими участниками «референдума» и которые невозможно обойти: Библия, Сократ, Платон, Данте, Шекспир, Сковорода, Кант, Гете, Гюго, Шевченко (о том, что значил и значит для меня Шевченко, я не раз писал), Пушкин, Гоголь, Достоевский, Франко. Не называю и тех, кто уже «просится» на уста следующих респондентов: от Рабле и Свифта до Щедрина и Бунина, от Чапека и Кафки — до Хвылевого и Довженко, от Фитцджеральда и Фолкнера до Пруста и Джойса, от Паскаля и Шопенгауера до Юнга и Хейдеггера. А тем временем предлагаю читателям еще одну (после уже многих) условную «десятку» (в хронологическом порядке).
«Ицзин», или «И Цзин» («Книга перемен») , — один из древнейших мантических текстов, которому более трех тысяч лет. Несмотря на свою сугубо китайскую парадигматику, он стал известен в мире, был источником заимствований и импульсов для философской и моралистической мысли. Система тонко взвешенных символов, заплетенных в ткань популярного гадания и прорицания, давала картину движения жизни и изменчивости человеческой судьбы. Эта идея движения, перемен, возникшая из вдумчивых наблюдений, стала великим достижением человеческого разума. Моральные категории, психологические состояния раскрывались в ситуативных проявлениях и будто «расцветали» в житейской конкретности (одновременно приобретая характер притчи). Жизнь представала как богатство творчества, а творчество — как потребность человека. И хотя сложная поэтика «Книги перемен» непосредственно недоступна европейцу, все-таки и в переводе чувствуется характерная для китайской философии и всей вербальной практики эстетичность рассуждения.
К китайской философии, поэзии, прозе меня приобщил в 60-е годы большой любитель китайской словесности и китайского чая, наш прекрасный художник Григорий Гавриленко. Но «Ицзин», с которой нужно было начинать, я прочитал только недавно, как и Конфуция...
«Дхаммапада» («Стезя добродетели») — знаменитый буддийский сборник нравственных сентенций, одна из важнейших частей буддийского Канона, компендиум буддийской мудрости. 423 афористических пассажа «Дхаммапады» составляют гармоничную целостность, определяя те страсти и состояния, которые держат человека в мире страданий, и предлагая путь освобождения от страданий (основная тема аутентичного буддизма). Это освобождение — не в самозабвении, самоугасании, как вульгарно понимают нирвану, а в просветлении духа, преодолевшего низменные вкусы и зависимости. Благодаря красоте и глубине мысли максимы «Дхаммапады» в течение более двух тысячелетий словно живут своей жизнью в мире человеческого духа, «выныривая» то у Платона, то у Паскаля, то у Канта, то у Лабрюйера, то у Ницше, то у Толстого, то у Достоевского, то у экзистенциалистов (понятно, без их ведома)...
Судите сами — несколько примеров из 423-х: «... никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она. Вот извечная дхамма»; «Ведь некоторые не знают, что нам суждено здесь погибнуть. У тех же, кто знает это, сразу прекращаются ссоры»; «Если даже человек мало повторяет Писание, но живет следуя дхамме, освободившись от страстей, ненависти и невежества... — он причастен к святости»; «Мнящие суть в несути и видящие несуть в сути, никогда не достигнут сути...»; «Как крепкую скалу не может сдвинуть ветер, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал»; «Немногие среди людей достигают противоположного берега. Остальные же люди только суетятся на здешнем берегу»; «Мудрые удаляются: дома для них нет наслаждения. Как лебеди, покидающие пруд, покидают они свое жилище... Их путь, как птиц в небе, труден для понимания»; «Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы только себя самого, то именно этот другой — величайший победитель в битве»; «Легко жить тому, кто нахален, как ворона, дерзок, навязчив, безрассуден, испорчен»; «Но трудно жить тому, кто скромен, кто всегда ищет чистоту, кто беспристрастен, хладнокровен, прозорлив, чья жизнь чиста»; «Нет огня, подобного страсти, нет спазмы, подобной гневу, нет сети, подобной обману, нет реки, подобной желанию»; «Благие сияют издалека, как Гималайские горы. Злых же и вблизи не видно, как не видно стрел, пущенных ночью»; «Многие люди порочны, и я буду терпеть оскорбления, как слон в битве — стрелу, выпущенную из лука» и т. д.
В далекой молодости цветными листами, записав на них афоризмы из «Дхаммапады», я заклеивал облупленные стены своей неремонтированной холостяцкой комнатки. Перечитав «Дхаммападу» через сорок лет, почувствовал прежнее волнение...
Басни Эзопа . Универсальный кодекс морали в форме «приключенческих» миниатюр, сюжетов образной мысли; энциклопедия народной мудрости в сфере человеческого поведения. Современный «продвинутый» интеллектуал «имел в виду» придуманную, дескать, романтиками и народниками «народную мудрость», а слово «народ» стало чуть ли не ругательством в устах самопровозглашенных элитарщиков. Однако фольклор каждого народа — сказки, басни, пословицы, — которых никто теперь не читает, — содержит такую сумму знаний и универсальных истин о человеке, человеческих отношениях, человечестве, до которой не каждый великий философ древности или новейших времен «дотягивает». Это и не удивительно, ведь, как известно (хотя и забыто): глас народа — глас Божий. Не в том, разумеется, значении, которое придают (придавали) ему политики. А в том, которое наивно отражено в древнегреческой легенде о тайнах Эзоповой мудрости и красноречия: за его добродетели боги развязали ему, немому, язык и вложили дар божественного Слова. Таким божественным Словом владеет каждый народ. И у каждого народа, и во все века это Эзопово (даже без Эзопа) Слово подтверждало интеллектуальное и моральное превосходство благородного плебея над «хозяевами жизни».
Интересно, что Джамбаттиста Вико, называя Эзопа «народным философом нравственности», в то же время ставил под сомнение его реальное существование, считая, что он — «фантастическое родовое понятие».
«Исповедь» Августина Блаженного (Августина Святого). Глубокое и вдохновенное размышление о непостижимой неоспоримости Творения; о Слове как факторе Творения; философское, поэтическое и филологическое толкование аллегорий Святого Писания в спектре разночтений, — что дало мощный импульс философско-теологической и критической мысли. Глубоко личностный поиск единения с Богом, который поставил в центр богословской проблематики неповторимую человеческую судьбу, утвердил Личность в качестве субъекта бытия, стремящегося сочетать рациональность с трансцендентностью; неуклонный анализ понятий души и тела, природы времени, прошлого и грядущего, материи, свободного выбора воли, — выводил патристику на горизонты, за которыми уже виднелась метафизика следующих веков. Наконец классический для христианства образец обращения (пережитого многими великими людьми), доказательство способности человека к глубокому самопреобразованию вследствие мучения правдой («Бог не давал покоя Августину, пока он не познал правду»), — и в то же время, как «орудие» перерождения, нещадное саморазоблачение («Хочу вспомнить все свои давние гнусные поступки и телесную испорченность души моей»). Этот самоанализ настолько психологически утончен и проницателен, настолько охватывает природу человека в целом, что фактически «угадывает» многие идеи как позитивистской психологии ХVIII — ХIХ вв., так и психоанализа ХХ в. (мысли о памяти, забвении и «забвении забвения», о сне, похоти, о личном и неличном в человеческой душе, об ее «тайных непостижимых закоулках», о «чувственных знаках вечной правды, созданных ввиду человеческого бессилия»).
Произведение Августина, будучи принципиально новым явлением в агиографии, породило традицию европейской автобиографической литературы. Особенно близка к «Исповеди» Августина «Исповедь» Руссо — не с теологической точки зрения, а своим, так сказать, подвигом саморазоблачения как способа сказать правду и о человеческой природе, и о своей неповторимости вообще («Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, — и этим человеком буду я»). Руссо ошибся, говоря, что у него не будет последователей. Последователей было много. Но с прогрессом цивилизации чем дальше, тем больше терялись свойственные Августину и Руссо целомудрие саморазоблачения («Мне стыдно высказаться яснее, но нужно сделать это», — трогательно признается Руссо), сдержанность этического мазохизма и понимание саморазоблачения и самоукора как пути к самоусовершенствованию, — чем дальше, тем больше торжествовал пафос демонстрирования собственной низости как обвинения человечеству...
«... Я еще не любил, но я любил любовь и, любя любовь, искал, кого бы полюбить» — эти слова Августина, где-то вычитанные (тогда еще его «Исповедь» невозможно было найти), так запали мне в душу в юности...
Сервантес. «Дон Кихот». Эта книга неисчерпаема. Пришлось бы говорить об очень многих духовных явлениях и феноменах, очерчивающих вселенские параметры Рыцаря Печального Образа. Это как будто «последняя» правда о благородстве и ничтожестве человека в мире. Но «идея Дон Кихота не принадлежит эпохе Сервантеса, она общечеловеческая, вечная идея» (В. Белинский). Вероятно, Дон Кихот «назревал» еще с тех неведомых, затерянных в темноте праистории времен, когда слабосильный и одинокий в стае человек впервые, возможно, неумело, но честно восстал против ликующей неправды, — и не закончится он до тех пор, пока не сотрется разница между добром и злом, или, как говорил тот же Белинский, «пока люди не разбегутся по лесам».
Так или иначе Дон Кихот продолжался у Филдинга и Гуцкова, у Достоевского (князь Мышкин) и Голсуорси, у Гюго и Роллана, у Тургенева и Чехова, в идеалистах романтизма начала ХIХ в., в «лишних людях», в неисчислимых «чудаках», мечтателях и «идиотах» всей литературы мира.
Сегодня Дон Кихот — это не просто персонаж романа, написанного более трех с половиной веков назад испанцем Мигелем де Сервантесом Сааведрой. Это что-то неизмеримо большее: один из нескольких единственно возможных и единственно непреходящих символов всечеловеческого духа, автопортретов человечества — как Прометей, Гамлет, Фауст, — которые творятся и будут твориться всей историей рода человеческого. Советую читать «Дон Кихота» в украинском переводе Миколы Лукаша — кроме всего, погрузитесь в мягко рокочущих океан украинского языка.
Джамбаттиста Вико. «Основы новой науки об общей природе наций». Удивительная книга, написанная человеком, который на столетие отстал от идей своих современников — рационалистов-просветителей и благодаря этому (и своему гению, разумеется) на два столетия во многом опередил идеи современных ему и будущих философов.
Я прочитал ее в 1962 году, когда лечился в Алупкинском тубсанатории — в Алупкинской библиотеке было много изданий «Соцэкгиза» 30-х годов. А недавно вышло новое, более полное издание Джамбаттисты Вико.
Как всякий творец великой системы, призванной дать окончательное мирообъяснение, Дж. Вико начинает с нещадной ревизии приобретенных человечеством представлений, которыми оно обязано «тщеславию наций» и «тщеславию ученых». Это, по мнению Дж. Вико, наиболее опасные из всех видов тщеславий, и он сводит счеты с ними в манере несравненно саркастической (позже Г.Юнг скажет о гордыне «Я» как его «инфляции»).
Но и сам человеческий разум имеет свойства, являющиеся «неисчерпаемым источником всяческих ошибок». Две главные из них Дж. Вико будет постулировать в своих Аксиомах: «I. Человек вследствие бесконечной природы человеческого ума делает сам себя правилом Вселенной там, где ум теряется от незнания»; «II. Свойство человеческого ума состоит в том, что там, где люди не могут составить никакого представления о далеких и неизвестных вещах, они судят о них по вещам известным и имеющимся налицо». Нетрудно заметить, что это те же самые ловушки человеческой мысли, которые доставили столько хлопот всей последующей философии и сосредотачивали ее внимание на логических процедурах.
А вот еще одна из его Аксиом, пятая: «Чтобы помогать роду человеческому, Философия должна поднимать и наставлять человека пропащего и слабого, а не искажать его природу и не покидать его в его испорченности». Какой наивный упрек самодовольным любомудрам!
Шестьдесят четыре Аксиомы Дж. Вико охватывают историю, мифологию, культуру, язык, экономические и политические отношения народов, формы их самоуправления, религии, принципы самой философии... Эти Аксиомы и составляют тот инструментарий, с помощью которого Дж. Вико в дальнейшем деконструирует и реконструирует картину мира людей.
Больше всего известен он своей концепцией круговорота (идей, форм бытия, подъема и упадка народов, культур), которая противостояла идее прогресса как будто бы постоянного перехода от низшего к высшему, и не раз отозвалась в философии XX в.
Но мне кажется, что наибольшее его постижение — это «открытие» Человечества как сложной, изменчивой и разнокачественной целостности, единства. До него идея Человечества была абстракцией. Он придал ей животрепещущее и «магматическое» содержание: огненность, бурность, изменяемость. Он высмеял претензии «ведущих», «избранных» наций выводить человечество от себя или на него себя экстраполировать, «уча» и «обустраивая». Он исходил из того, что каждая нация сама приходит к общим для всего Человечества истинам, потому что общей является природа наций, природа людей, и наилучшее доказательство этой общности — то, что различные народы, не зная друг друга, порождают схожие идеи (и подвластны общим архетипам, добавил бы Г.Юнг). Однако общность не означает однообразие, наоборот. У Дж.Вико — пафос ценности культур, мифологий, языков, раскрытия их мирообъясняющих и поэтических глубин.
Джамбаттиста Вико и сам больше Поэт, чем Философ, а правильнее: Философ-Поэт. Есть что-то бетховенское в его грандиозных композициях, в бесконечном потоке мощных аккордов мысли. Или, скорее, он гений барокко, духовное напряжение и неисчерпаемая декоративность которого вынуждает мириться с избыточным, темным и случайным. Да, произведение его перегружено взрывами его внимания и придирками его памяти; немало и поданного в поэтических одеяниях суеверия (например, о ведьмах, и тому подобное). Но сколько гениальных прозрений и догадок! И сколько раз, читая его, воскликнем: а «что- то такое» есть у Канта! у Фихте! у Маркса! у Шпенглера! у Ницше! у Вильгельма Гумбольдта! у Потебни! у Достоевского!.. и т.д.
В заключение этого короткого упоминания о Джамбаттисте Вико хочу привести еще одно его весьма интересное размышление о судьбах народов, также многократно варьировавшееся позднейшими мыслителями (как и сам Вико варьирует Тацита): «Люди сначала стараются выйти из подчинения и жаждут равенства — таковы Плебеи в Аристократических республиках, которые в конце концов превращаются в Народные. Потом они стараются превзойти равных — таковы Плебеи в Народных республиках [...]. Наконец, они хотят поставить себя выше законов, — отсюда Анархии, т.е. Разнузданные Народные Республики; нет худших Тираний, чем они; в них столько тиранов, сколько в государстве наглецов и развратников. Тогда Плебеи, ставшие осторожными вследствие собственных несчастий, находят исцеление от них в Монархиях» (Аксиома 45).
Ромен Роллан. «Бетховен». Сказано: «За гениями непосредственно следом идут те, кто умеет оценить их». Ромен Роллан — конгениальный ценитель Бетховена, этого «материка духа». Профессиональный анализ музыкальной фактуры произведений Бетховена перерастает в гигантскую картину высокой души, картину духовных порывов эпохи...
«Рисуя его, я рисую его племя. Наш век. Нашу мечту. Нас и нашу спутницу с окровавленными ногами — Радость [...].
И великого быка со свирепым взором, с поднятым челом, упершегося всеми четырьмя копытами в вершину, на краю бездны, — чье мычание разносится над временем... »
Василь Стефаник. «Синя книжечка», «Камінний хрест», «Дорога», «Земля». Уникальный в мировой литературе феномен: перипетии жизни обездоленного крестьянина, его социальные и национальные страдания, его душевные состояния воспроизведены в таком диапазоне и на таком уровне трагизма, которые раньше были мыслимы только у рафинированного интеллигента — героя европейской классики. А локальный диалект этого крестьянина с Покутья возвышен до высот артистизма; его гениальная речь несет недосягаемую изобразительную энергию. Впрочем, далекий от Стефаника Бертольд Брехт утверждал, что настоящая литература создается диалектом. Нынче, в эпоху смертоносного выхолащивания всех языков мира, утрачено ощущение красоты и живительной силы диалекта, он вызывает только брезгливое раздражение интеллигентствующего обывателя. И вскоре, по-видимому, только никем не читанные тексты Стефаника останутся археологическим памятником когда-то великой крестьянской культуры.
«Стефаник — абсолютний пан форми... Се правдивий артист із Божої ласки, яким уже нині можемо повеличатися перед світом»; «Василь Стефаник, може, найбільший артист, який появився у нас від часу Шевченка» (Иван Франко).
Пьер Тейяр де Шарден. «Феномен человека». Даже те, кто не читал де Шардена, знают, что с его именем связывается идея ноосферы — как и с именем Вернадского. Однако на самом деле содержание его книги намного шире и драматичнее. В первую очередь это патетическая картина самотворения Жизни, которая породила Мысль, чем поставила себя перед трагическим испытанием; это панорама соматопсихических потоков, которые создали совокупность сначала слабых и грубых, а потом тонких и мощных связей, благодаря которым человечество стало как будто одним одухотворенным телом; это тревожное размышление о пути эволюции: Преджизнь, Жизнь, Мысль... А дальше? Сверхжизнь?
«Продвинувшись до человека, не остановился ли мир в своем развитии? А если мы еще движемся, то не находимся ли накануне падения?»
Наибольшая угроза — «элементы мира, отказывающиеся ему служить, потому что они мыслят. Еще точнее, мир, увидевший себя посредством мышления и потому отрицающий самого себя. Вот где опасность. Под видом нынешнего беспокойства образуется и нарастает ни что иное, как органический кризис эволюции».
Вся эта проблематика касается самой сущности человека, и эту сущность Тейяр де Шарден интерпретирует в широком этическом и (не всегда прямо) религиозном контексте. Человек для него — предмет познания и предмет заботы: духовной, социальной, гигиенической. В конечном счете, он верит в способность человека к бесконечному позитивному развитию, в космические корни жизни и космическую будущность человечества.
«Чем больше человек будет становиться человеком, тем меньше он согласится на что- либо иное, кроме бесконечного и неистребимого движения к новому. В сам ход его действий включается нечто «абсолютное». И далее: «в какой-то форме, по крайней мере коллективной, нас ждет в будущем не только продолжение жизни, но и Сверхжизнь».
Андрей Платонов. «Котлован», «Ювенильное море» и другие произведения. Трагическая сатира на интимно дорогую автору утопию — чем она обернулась в тектоническом сдвиге, который извергнул на поверхность причудливые человеческие энергии. Человек революции и первичного «социалистического строительства» у Платонова — гремучая смесь социального идеализма и социального дебилизма; его порыв к правде и справедливости оборачивается фантастическим прожектерством. Платонов любит этого идеалиста-ублюдка, страдает с ним и за него и боится его дикой альтруистически-коллективистской и коллективизирующей энергии. Никто так, как Андрей Платонов, не воспроизвел (сотворил!) «обобщенный», гениально-неправильный — пронзительный в своей обезображенности и адекватной всей социальной фантасмагории — язык массового демиурга революции и соцстроительства. Вспоминается ленинское: социализм приходится строить из того человеческого материализма, который оставил нам «проклятый капитализм». Именно таков герой Платонова, и культурной необеспеченности его глобальных порывов отвечает его вдохновенная, циклопическая вербальная деструктивность.
... Можно было бы и хотелось бы продолжать и продолжать этот список... Но ведь «лимит исчерпан». Послушаем других читателей. Коллективный выбор подправит неминуемую субъективность и вынужденную (условиями «игры») ограниченность выборов индивидуальных.
Выпуск газеты №:
№82, (2002)Section
Общество





