Как стать врачом
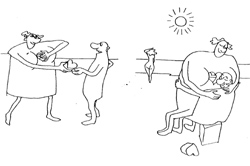
После четвертого курса я проходил летнюю практику в Житомирской городской больнице. Как полагается, вел дневник производственных достижений: ассистирование на операции по удалению аппендикса; аборт; роды и т.д. Наибольшее впечатление на меня произвел терапевт на поликлиническом приеме. У него были печальные глаза и взрывной темперамент. Слушая ту болезненную песню — когда, где и как заболело (с десятками несущественных уточнений и подробностей), от нетерпения ерзал ногами; протер пол чуть ли не до сырой земли, но никогда — никогда! — не останавливал пациента: слушал, слушал, слушал... Когда терапевтический цикл у меня закончился и мы прощались, он спросил: «Вы и в самом деле хотите быть врачом? — Хочу. — Научитесь сосать большой палец на левой ноге. — Что? — А я вам говорю — научитесь. Это неудобно и скучно, но крайне необходимо для развития терпения. Вы думаете, больные приходят за рецептом? Они приходят поговорить. Я им и врач, и батюшка...» Сосать палец я не научился, терпения мне не хватало; шесть лет был врачом-практиком, но в конце концов нырнул в теоретические воды.
А началось все с того, что после школы я подал бумаги в Киевский институт инженеров гражданской авиации, но не прошел медицинскую комиссию. Происходило это в управлении «Аэрофлота» на Крещатике. Родители ждали меня возле фонтана перед Бессарабским рынком (был там фонтан) и, узнав о моей неудаче, ужасно обрадовались: всегда хотели видеть меня врачом. «Ты же знаешь, что делалось, — говорила мама, имея в виду недавнюю войну, — а врач всегда нужен, и всегда имеет кусок хлеба». Что делалось, я видел, и цену хлеба тоже знал, но — так мне казалось — все это прошло, а «жизнь прекрасна и удивительна». Так или иначе, но с Бессарабки мы поднялись два квартала на бульвар Шевченко, и мои документы остались в приемной комиссии мединститута. Симпатичный, в больших очках, секретарь спросил: «Какая врачебная специальность вас привлекает больше всего?» На что я без колебаний ответил: «Хирургия». За стеклышками в его глазах замелькали чертики. Дело было в том, что абитуриенты-ребята хотели быть хирургами и шли преимущественно на лечебный факультет, а я послушался рекомендации и для изучения детской хирургии пошел на педиатрический (о чем никогда не жалел).
Первую лекцию на первом курсе нам читала проф. К., заведующая кафедрой биологии. Читала будто на украинском языке, но с московским акцентом: «Радянська біАлогія веде пАстійну бАрАтьбу с вейсманізмом-мАрганізмом». Пани «прАфессорша» мне очень не «пАнравилась», и через 20 лет я защищал докторскую диссертацию по генетике в том числе и ей на зло. А вот второй курс безупречно начал проф. Ш., гистолог. На нем был черный костюм, белоснежная рубашка и серого цвета галстук-бабочка; говорил он содержательно и остроумно. Угнетала латынь. Не из-за недостатков этого блестящего языка, а из-за кроличьего смрада в учебных комнатах: в коридоре, просто под дверью, стояли клетки, в которых микробиологи держали подопытных кроликов. Debes ergo potes (должен — значит, можешь) — с этого начал первое занятие древний латинист; очевидно, овладел он своим предметом еще во времена Столыпина. После этого слогана он жизнерадостно перешел к склонению слов cadaver frigidum (труп хладный). Что, в конце концов, не произвело на нас особого впечатления, так как мы уже успели побывать в «анатомичке» и вдохнуть первую порцию смеси формалина и мертвой плоти. Проф. С., анатом, был «не от мира сего». Ходил в немецких солдатских сапогах с широкими голенищами, из которых выглядывали красного цвета портянки. На экзаменах ставил оценки как-то наугад, но всегда близко к двойке. Впрочем, временами он увлекался каким-то вопросом из экзаменационного билета, на его тему читал студенту подробную лекцию, а за это ставил «5». Ходили слухи, что проф. С. носит на шее крестик, а свой заработок отдает на восстановление храмов. Думаю, что так и было, ибо у него были такие глаза, какие Врубель с натуры рисовал своим апостолам в Кирилловском сумасшедшем доме.
Семестр за семестром, курс за курсом, и новые интересные личности. Физиолог, ученик и сотрудник И. Павлова, немощный, но уважаемый как каждый реликт. Малюсенького роста полковник, который вел курс по боевым отравляющим веществам и с блеском разбирался в тонкостях их действия. Вальяжный фармаколог, автор чуть ли не всех учебников и справочников, по которым мы учились. Хирург, генерал медицинской службы; с блеском оперировал (а иногда так же с блеском матерился в операционной), а на улице узнавал студенток со своей вчерашней лекции и первым здоровался. Отоларинголог, который всю аудиторию заполнял ароматом дорогих женских (!) духов, читал на ужасном местечковом языке, но через свое зеркальце на лбу видел все, что было у пациента в горле или в душе. Акушер-гинеколог, высоченный и лицом немного страшноватый, с неожиданными для его телосложения и его специальности кроткими глазами.
Было на кого смотреть и кого слушать, тем не менее — душа моя под белым халатом долго противилась. Я скучал по математике, по школе, и был бы счастлив однажды утром узнать, что все это сон, а на самом деле я учусь на университетском или пединститутском физмате. Причиной этого не в последнюю очередь было то, что у меня была мама-учительница и интересные школьные учителя, среди которых было много мужчин. Помню пасмурный зимний день, лекцию на кафедре патологической анатомии и печальный звон, доносившийся из Владимирского собора. Уже в который раз я мысленно возвращался к своей математически- педагогической карьере, и внезапно ощутил, что все — печальное, радостное или гнетущее — во что я будто бы без успеха вживался три года, на самом деле стало моим, что я уже не должен, а хочу быть врачом. Хотя на расстоянии десяти метров от аудитории находилась еще одна «анатомичка», и в ней cadaver frigidum, еще несколько часов назад бывший таким, как я, человеком, а в эти минуты... впрочем, о технологии работы патанатомов говорить не будем. Хмурый, как его специальность, доцент Л. часто откладывал в сторону микроскопические препараты, с которыми мы работали, и рассказывал что-то в оригинальном философском жанре, замешанном одновременно на человеколюбии и мизантропии. Помню несколько сентенций, имеющих больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Например: «формалин одинаково фиксирует и мозг, и почки, но я еще никогда не видел умной мочи». Или: «Если вам встретилась шлюха с честными глазами, не обращайте внимание на глаза».
Если у вас, уважаемый читатель, нет медицинского образования и трех семестров в анатомическом театре, мне трудно будет объяснить, почему большой зал, где на сорока железных столах пятьсот студентов, вскрывая трупы, изучают строение тела, — называется именно ТЕАТРОМ. Главное заключается в мироощущении, которое из этого театра выносит будущий врач: тело — чудо из чудес, ему не хватает лишь бессмертия, или: тело — мерзость, сущность которой подтверждает густой в этом театре запах.
Медицинское образование и врачебная практика, вообще-то, — школа гуманизма. Но подлость больного тела, антиэстетика мокроты и гноя временами становятся слишком большим испытанием для души специалиста. К этому следует добавить и особенности поведения некоторых пациентов. Капризность, лживость, коварность и злорадство, характеризующие определенную часть людей, у больных могут доходить до катастрофического уровня. На Житомирщине Ю.М. (посттравматическая энцефалопатия) в припадке ревности отрубил — топором к порогу — жене руки, а сам повесился под образами. В Москве гр. С.Ш., больной туберкулезом, смазывал мокротой конфеты и на улице угощал детей. В Израиле ректор института электроники, узнав, что он инфицирован вирусом СПИДа, через сексуальные контакты заразил более 500(!) партнеров; писал дневник, подтверждавший, что делал это сознательно. Больные (да и общественность) знать об этом не хотят. Лондонский врач Бернард Мандевиль (которого считают «своим» и философы), изучая, как наблюдают подданные британской короны за затеями сумасшедших в квартале Бедлам и зрелищем публичных смертных казней на Тайберне, искал истоки этого в самой природе человека. За что газеты даже имя его раскололи пополам: «ман-девил», то есть «человек-дьявол». Общество — привычно для себя — бежит от экзистенциальной трагедии страдающих, но бегут от нее и врачи. Для этого есть три способа: пастырский (всепонимание и всепрощение), бытовой (напиться) и демонический — препарирование мерзости, отыскание в ней особой, извращенной красоты, отталкивающей и привлекательной одновременно. Среди врачей есть высочайшие образцы человечности и жертвенности, но есть и больше, чем хотелось бы, примеров невежества, хамства и цинизма. Как стать настоящим Врачом? А очень просто: так, как становятся Человеком.
Потерпев неудачу с авиацией и согласившись на медицину, я знал о ней мало и не то, что нужно. А хирургом я надумал стать, потому что читал о Платоне Кречете в пьесе А.Корнийчука, о его влюбленности в Лиду и о том, как он вышел из операционной, где боролся за жизнь наркома. Цитирую: «Далеко по коридору идет Кречет. В белом халате, в маске, только руки темные — они в резиновых перчатках. Кречет приближается, его окружили и боятся спросить. Большая пауза. ПЛАТОН: Думаю... (Пауза), он будет жить! ЛИДА: Платон! (Бросилась к нему).» Что ж, славно. А если не будет жить, да еще и «сам» нарком, а вины врача в этом нет?






