Лагерный срок за... саркастическую улыбку»
Несколько фрагментов коллективного «Реквиема»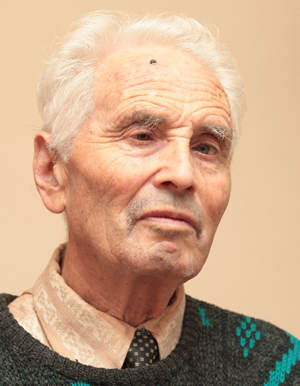
В ночь на 19 апреля печально знаменитого 1938 года наш семейный поезд пошел под откос: был арестован мой отец. Заходя изредка в каменный дворовой колодец «дома с шарами» по ул. Богдана Хмельницкого, 32, а тогда — Ленина, я вглядываюсь в череду молчаливых окон на пятом этаже и представляю, как все происходило. Представляю потому, что, к счастью, не проснулся в предрассветные часы во время обыска и увода отца. Господь каким-то образом пощадил меня в те моменты.
Сотрудники НКВД с соответствующим ордером вломились в большую коммунальную квартиру на семь жильцов, очевидно, с центральной, «парадной» лестницы, напротив ворот. Там, а может быть, на улице и поджидал очередную жертву «черный ворон». Был заблокирован, думается, и черный ход. Миновав комнату у входа, где, охваченные страхом и сочувствием, замерли, затаившись, наш ближайший сосед Николай Саввич Евреинов, потом очень помогавший моей бабушке, его жена Лидия Николаевна и их сын Юра, мой сверстник, в будущем — талантливый киевский архитектор, рано ушедший из жизни, — непрошенные гости оказались в нашей комнате, отгороженной перегородкой от общего коридора. Они покинули наш дом под утро, и в помещении, где все было перевернуто вверх дном, остались мама, бабушка и я. Мне шел седьмой год... Мою постельку чекисты почему-то не тронули.
Совершенно отчетливо запомнилось теплое дождливое утро наступившего дня, множество дождевых червей на асфальте, когда мама отвела меня в детский сад на ул. Короленко. Мы спустились на площадь в тылу Оперного театра по широкой лестнице с ул. Театральной (теперь этой киевской достопримечательности уже нет), и я оказался в комнатах детского сада в ближайшем угловом здании. Казенное это заведение я не любил. Мама сказала, что отец срочно уехал в дальнюю командировку...
Для нее наступили тревожные дни. Нас по телефонной просьбе согласился приютить в старинном Угличе Ярославской области родной брат моего деда, выпускника медицинского факультета университета Св. Владимира в конце XIX века, земского врача Иосифа Гологорского (он проработал всю жизнь в Тараще и умер в 1925 году) Наум Яковлевич Гологорский, также врач, но стоматолог. Дядя Нюня и тетя Руся, врач-терапевт, его жена, были старожилами этого города моего нового детства.
Как сейчас помню двухкомнатную квартиру на втором этаже двухэтажного бревенчатого дома, с «холодным туалетом» на лестничной площадке, рукомойниками вместо водопровода. Но зато — замечательные, как мне помнится, картины и гобелены на стенах, фарфоровая посуда, специальные подставки для яиц всмятку, белоснежные салфетки в костяных футлярах. Встретили нас старики радушно, и вскоре я сдружился с дворовой компанией.
Потом маме дали комнату, и я снова пошел в детский сад поблизости, в отличие от киевского, мне в нем сразу же очень понравилось, ребята были доброжелательными и нелюбопытными. Ходили с мамой иногда в гости к монашкам, друзьям Наума Яковлевича, в дивный смородиновый сад над берегом Волги. Удивлял меня радиоприемник в доме, мне казалось, что внутри находятся человечки. Так потекли месяцы.
Как и почему пролегла дорога избавления? Через два дня после случившегося маму исключили из комсомола «за потерю бдительности к врагу народа». Она работа в тресте «Украинлес». Против голосовала лишь ее подруга, смелая душа, Гликерия Фоминична Якутенок, тетя Луша. Они часто общались и после войны... И мама поняла: чтобы спастись, надо уезжать. В глазах стоит незнакомая весенняя Москва, громады домов, ночь или две у родственников, провинциальный Савеловский вокзал, откуда раз в сутки курсировал поезд в Углич. Оказывается, мама, как и многие жены репрессированных, пыталась попасть на прием в НКВД и прокуратуру, чтобы апеллировать по поводу незаконных мер в отношении мужа. Но усилия были и тщетны, и опасны. Складывался, в сущности, коллективный «Реквием»... Все это я узнал и осознал лишь потом.
В Угличе, навсегда оставшемся в моем сердце, я провел примерно полтора года и осенью 1939-го возвратился в Киев к бабушке, чтобы поступить в первый класс в школе № 47, находившейся на пригорке в проходном дворе — по той же улице Ленина. Мама оставалась в одной из деревень Угличского района, где стала работать учительницей немецкого языка в школе благодаря тому, что закончила в Москве Всесоюзные заочные курсы иностранных языков: ей никогда не нравилась ее специальность экономиста, хотя она окончила также КИНХ, Институт народного хозяйства.
Началась война. Незадолго до нее мама вернулась в Киев, вновь устроилась на работу. В июле мы эвакуировались втроем, но не из столицы, а из Яготина, где были на даче в ближнем селе, втиснувшись в вагон с чернильными приборами проходившего товарного поезда. На оккупированной территории не оказались просто чудом, в селе нас уговаривали остаться. Добрались до Волги, до сонной Сызрани, чтобы пароходом попасть в тот же Углич. Но выяснилось, что немцы подходят и с севера. Обратный путь, трудная посадка на переполненный теплоход, Волга, Ока, Кама. Дядя Нюня и тетя Руся из Углича не тронулись. По воле Провидения враг, однако, не вошел в обитель царевича Димитрия.
Годы войны до освобождения Киева мы провели в Уфе. Мама получила работу плановика-экономиста, ее диплом был при ней. Бабушка и она стали донорами, это давало право на более льготные продуктовые карточки. Сажали картошку на сухом участке у моторного завода. Я спал на письменном столе в небольшой комнате, в гостеприимном переполненном доме Агафьи Петровны Копьевой.
Еще до отъезда, в тихом благодатном селе я, наконец, узнал, что произошло с отцом. О причинах его «командировки» я почему-то до этого не очень задумывался. Правда, что на самом деле он «сидит», мне в киевском дворе однажды с издевкой сообщил доброхот — соседский мальчишка. Но я как-то не придал его словам особого значения, они от меня как бы отскочили, и дома ничего не выяснял. С этого разговора летом сорок первого, в ветреном поле, я стал другим человеком, со своей тайной. Я знал уже то, о чем многие мои ровесники даже не догадывались. Отец пребывал в каких-то далеких лагерях. Оказалось, что к исходу тридцать восьмого бабушка получила от него письмо. Его переслал, подобрав записку на рельсах, неизвестный путевой обходчик из Купянска. Из зарешеченного вагона, через отверстие туалета, отцу вблизи этой станции удалось выбросить клочок бумаги с киевским адресом. Он писал, что получил восемь лет и их везут на север...
В сороковом году до мамы каким-то непонятным образом дошла коротенькая затертая записочка из Колымы, почти нацарапанная. Как эта весточка вырвалась за пределы ледяного ада, какая эстафета ее принесла — вечный секрет. Отец писал: бери развод, так как спасения он не видит, а этот формальный шаг все же облегчит ее судьбу и мое будущее. И такой документ мама вскоре беспрепятственно получила. Процедура была крайне простой, согласия осужденного не требовалось. И все же в школе с первого класса я числился Гологорским, вернуть свою фамилию мне удалось лишь при получении паспорта. «Псевдоним», если вдуматься, не был случайным. Я ведь был словно голый среди волков...
Заснеженная Уфа. И вдруг, через тот же Углич приходит письмецо от отца, написанное незнакомыми крупными корявыми буквами, из Кемеровской области, п/я 237, 5-а. Так обозначалось его пребывание. На добыче золота в Колыме он отморозил пальцы. Восемь из них были в различной степени ампутированы. Раны заживали медленно, паек резко сократился, и тут грянуло известие о войне. Поскольку отец был кадровым военным, подал заявление с просьбой об отправке на фронт, но лиц с 58-й статьей в армию не брали. Ситуация становилась все тягостнее. Опасаясь нападения со стороны Японии, значительную часть политических заключенных ликвидировали. Неведомая «Катынь»... но золотыми буквами мы пишем всенародный Сталинский закон»... Инвалидов, от которых вреда уже можно было не опасаться, а работать они могли, этапировали пароходом на Большую землю, трюм был забит вплотную. Потом отец рассказывал, что троим смельчакам все же якобы удалось под выстрелами броситься в ледяную воду, когда вблизи проходило какое-то судно. Скорее всего, то была лишь зэковская легенда.
И снова знак судьбы. О том, что произошло дальше, мне однажды рассказал, уже в шестидесятых, известный киевский журналист Петр Прокофьевич Белинский, реабилитированный, как и отец, во времена хрущевской оттепели. Ему даже дали работу в «Вечірньому Києві», где он печатал довольно грустные фельетоны, а затем — в журнале «Под знаменем ленинизма». Белинский распознал меня по имени и фамилии в туберкулезном санатории в Алупке, где мы, оказывается, одновременно лечились. Письма раскладывались на столе перед входом в столовую, и Петр Прокофьевич дожидался, кто же возьмет конверт в мой адрес. Весь вечер мы говорили, говорили... Редактор довоенной киевской детской газеты «За зміну» Петр Белинский был арестован по той же 58-й статье, однако получил всего пять лет. Это считалось «божеским сроком» и спасло его от Колымы. В огромном лагере под Мариинском он стал санитаром, поскольку заявил, что в юности был помощником аптекаря. И вот в колымской толпе, конвоируемой к баракам, Белинский вдруг увидел Григория Виленского. В тридцать восьмом они провели в одной камере на Лукьяновке, все время пополняемой, несколько месяцев. Стояли, сгрудившись, сутками рядом, лечь было негде, спали по очереди, и сдружились. Виленский шел с замотанными грязными бинтами кистями рук и принадлежал уже к «мусульманам» — последнему разряду заключенных, собирающих от голода очистки у мусорных ям и, как правило, быстро погибавших от дизентерии. Белинскому удалось упросить начальство взять инвалида раздатчиком белья в баню, пока культи подживут.
Пришел День Победы. Я ходил по ликующему Киеву, радовался вместе со всеми, особенно когда мы встречали солдат с боевыми наградами, ждал и надеялся — должна же последовать сталинская амнистия по поводу великого события. Увы, 58-й статьи она не коснулась. В сорок шестом году срок отца истек, ему ничего не добавили, однако не освободили. На каждый такой акт требовалось «особое распоряжение» из Москвы. В конце года оно пришло. Быть может, и потому, что в лагере отец числился ударником по ремонту обуви для фронта. Ведь это была его первая юношеская специальность.
Несмотря на специальные «минусы» в паспорте, то есть запрет пребывать в больших городах, он все-таки рискнул приехать в Киев. К нам на Подол, на Волошскую, где мы тогда жили. Ему шел сорок пятый. Под вечер в многолюдный незнакомый двор вошел усталый мужчина в бушлате с котомкой за плечами. Я, как условились, поджидал его. Хотя не виделись долгие годы, друг друга мгновенно узнали, но не подали виду. Не привлекая внимания соседей, я провел его по скрипучей лестнице на галерею на втором этаже, к нашим дверям. Наступил вечер. Счастливый вечер. Через несколько дней он уехал.
Дальнейшее? Отца и мамы уже нет... Расскажу лишь о вызове ее в управление КГБ, что на улице Розы Люксембург, кажется, в 1955 году, когда начался процесс реабилитации отца, и о ее неожиданном открытии. Следователь, зная о разводе, возможно, рассчитывал получить на отца какой-то негатив, но мама дала лишь самые положительные характеристики. Проникнувшись к ней почему-то уважением, следователь вдруг дал ей просмотреть дело отца. Она быстро пробежала глазами. Три доноса: от Ф., Д. и С., сослуживцев отца по 8-й обувной фабрике. Фамилии эти я знаю, но не стану их приводить, никого давно уже нет, а родные остались... Доносы были такими: отец как бывший военный якобы развалил на фабрике спортивно-оборонную работу, а на одном из открытых партийных собраний «саркастически улыбался».
Так получилось, что и у близких маминых подруг Надежды Даниловой и Фриды Радчек мужья также попали в ту пучину. В праздничные майские и ноябрьские дни они почему-то за чаем собирались у нас. С каким-то особым преклонением за бестрепетный характер вспоминаю Надежду Николаевну Данилову, образец закаленной коммунистки. Ее муж Волкотруб был арестован, и она также не исключала худшего для себя. Однажды услышала шаги на лестнице. Интуитивно догадалась: это за ней. Схватив банку для керосина, без пальто, в кофточке, в зимний день бросилась вниз, навстречу незнакомцам. Дворник промолчал. Оставив где-то банку, ринулась на вокзал и добралась до Харькова, к сестре. Потом все утихло... Тетя Фрида, всегда элегантно одетая, изысканно интеллигентного вида, похожая на редкостную птицу, всегда вносила в эти встречи певучим звуком и оживленностью какой-то лиризм. Вообще они не унывали и говорили, конечно, не только о былом. История Радчека была такой: он был арестован как польский шпион, поскольку был родом, кажется, из Белостока. Жене кто-то сообщил, что эшелон с заключенными, куда он попал, вот-вот будет отправлен из Киева. И Фрида Радчек из вечера в вечер, как и другие женщины, выходила на железнодорожные пути, но все напрасно. Уже после реабилитации выяснилось, что «польский шпион» был вскоре после ареста расстрелян, а приговор «десять лет без права переписки» оформили, очевидно, позже. Впрочем, с ее слов, это лишь версия,.
В мае 1956 года решением Киевского областного суда за подписью председателя Глущенко постановление Особого совещания от 26 сентября 1938 года в отношении отца было отменено «за недоказанностью обвинения». Я помню наизусть этот документ, как и подробности колымской эпопеи. Почему отец уцелел? Может быть, сказалась донбасская пролетарская косточка, сиротская выносливость и отсюда какой-то иммунитет от уголовников, тем более, что сапожник был всегда нужен, даже в долгом пути через Сибирь.
Несколько раз я потом встречался с ним, с Белинским и еще с каким-то солагерником дядей Ваней. Радость жизни быстро возвратилась к ним. В партию отец продолжал истово верить. Гордился, например, что, обучаясь в Москве на курсах «Выстрел», сопровождал при визите как дежурный по курсам Эрнста Тельмана и даже после оправдания написал об этом в ГДР. «Стираются и исчезают воспоминания», — заметил Михаил Булгаков в рассказе «Полотенце с петухом». Мы не знаем завтрашнего дня, и надо спешить. Пусть сохранится и эта хроника. Она, конечно же, индивидуальна, но и типична — судьба одиночки из легиона таких же.
Выпуск газеты №:
№172, (2010)Section
Общество





