По воле волн
Грядет новый взгляд на мир и на прошлое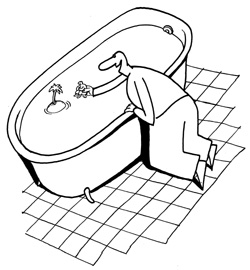
«Познай самого себя!» — этот призыв был начертан у входа в храм Аполлона. Для современного человека он столь же важен, как для добропорядочного древнего грека. Ибо полезен в смысле самоконтроля: «не впадай в преступную наглость», и приятен в смысле чисто познавательном. Ну, что еще может познавать человек с наибольшим удовольствием? (Так, кажется, писал Федор Михайлович). С не меньшим удовольствием человек познает и общество, в котором живет. Задача индивидуальной и, особенно, коллективной идентичности — серьезная задача. К примеру, Европа мы или не Европа? Этот вопрос многим сегодня спать не дает. А Европа, между прочим, тоже задумывается, что она есть такое при евро и без границ между бывшими странами-врагами? И человечество, говорят, задумывается…. Какая ныне общественно-экономическая формация?
Сколько, помню, писанины городилось вокруг этих самых формаций. А потом оказалось, что это не реальность вовсе, а удобный в некотором смысле способ членения человеческой истории. Возможны и другие способы. Например, теперь модно рассуждать об истории «волнами» Элвина Тоффлера. Первая волна — это когда люди осели, занялись земледелием и завели нормальную, как у нас теперь, моногамную семью. Возникло, стало быть, АГРАРНОЕ ОБЩЕСТВО. Потом — вторая волна, то есть промышленная революция, и, естественно, появляется ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. Наконец, совсем недавно накатилась третья волна, породившая ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО. Простая до нельзя схема. Но при должном к ней отношении выясняется, что из нее можно вывести некие жизненные рецепты и вообще — ответ на вопрос, как мне жить, что делать?
Но прежде одно уточнение. Рассуждения о человечестве вообще абстрактны. Да, где-то живут уже в информационном обществе, а где-то не дожили еще до аграрного. И если кто-то считает, что конкретное аграрное общество со временем станет индустриальным, а потом информационным, — тоже сомнительно. Это ведь только способ членения истории, предложенный сегодня. Откуда уверенность, что со временем «волны» Тоффлера не забудутся и не будет предложен другой способ членения? И расстановка конкретных обществ будет выглядеть совсем по-другому? Видимо, любое учение ценно тем, что отвечает на вопрос, что нам делать сегодня? Ни на что другое учение не должно претендовать. И вопрос «кто мы?» есть вопрос о происхождении. Потому так необходима хоть какая-то модель истории.
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ
Судить о том, к какому из трех типов общества относится данное общество, лучше всего по структуре занятости. Вот впечатляющая динамика. В 1800 году в сельском хозяйстве США было занято 90% всей рабочей силы. Теперь — менее трех процентов. Примерно столько, сколько преподавателей в университетах. И это небольшое число работников производит продуктов на 20% больше, чем требуется стране. Между тем около 80% работающих заняты сегодня в сфере информации. К ним относят: программистов, преподавателей, клерков, секретарей, бухгалтеров, биржевых маклеров, страховых агентов, юристов, банкиров и т.д. И у людей традиционных профессий —инженеров, врачей, различных операторов и т.д. — информационная составляющая труда непрерывно растет. За два столетия США прошли весь путь по схеме Э.Тоффлера. Многое на этом пути изменилось. Но главное, на мой взгляд, — изменялся объект адаптации, то есть то, к чему, собственно, человек должен притереться, приспособиться. Чем он, если хотите, должен овладеть. В аграрном обществе, работая непосредственно на ПРИРОДЕ, человек к ней и адаптируется, ею, природой, и овладевает. Все из земли, и все — в землю. Ее он познает, припоминает случавшееся с ней, накапливает опыт. Там, где он видит, к примеру, сотни разнообразных растений, горожанин видит траву, кусты, деревья. Время исчисляется годами, а год — временами. И у каждого времени своя работа. Это — главное, не линейность и необратимость, а цикличность и возвращение. И в труде человек возвращает к жизни то, что уже было. Выходит, что живет он прошлым, вглядывается в прошлое.
Потом человек уходит под крышу. Природа остается за окном, за городом. Индустриальный человек адаптируется к ТЕХНИКЕ. Трудовой процесс уже не определяется природными циклами. Именно в этих условиях появляется идея необратимости времени. Конвейер конечен только в физической реальности, идеально конвейер бесконечен. Любопытно, что этот символ индустриализма родился при наблюдении за рациональной разделкой туши животного. Есть здесь связь «волн». Генри Форд, посетив чикагскую бойню, додумался обратить операцию: если на бойне целостный объект движется перед вереницей работников и разбирается на части, то на автомобильном заводе объект будет собираться из частей и целостным становится на выходе.
К чему адаптируется человек информационного общества? Или так: что теперь является для него окружающей средой? Мне представляется, что происходит нечто принципиально новое. Природная, материальная начинка внешнего мира как бы испаряется, и человек оказывается погруженным в социальную субстанцию. Мир людей стремительно заменяет по значимости мир природы и мир техники. Короче, человек, чтобы состояться, должен адаптироваться теперь к ДРУГИМ ЛЮДЯМ. Информационное общество — это общество общения. Да, люди всегда общались, но никогда ранее общение само по себе не было предметом специального изучения. Оно становится главной заботой. Люди понимают, что от умения общаться зависит многое в их жизни. Люди скученны и пространственно, и, что ново, — за счет мобильных средств связи. Никогда ранее дело создания, обработки и потребления информации не было для большинства людей главным делом. Это аналогично «обществу потребления». Разве не потребляли люди во все времена? Но только сравнительно недавно появился этот термин. Ибо появилось общество, в котором потребление стало чуть ли не смыслом жизни. В развитых странах тысячи и тысячи доселе невиданных вещей ежедневно выбрасываются на рынок. Чтобы быть купленными и очень скоро замененными другими. Есть ли у вас, читатель, установка, снабженная лазером, для абсолютно точного разрезания торта для любого числа гостей? А прибор, начиненный электроникой, для абсолютно точного подсчета волос на голове? Нет, наверное. И у меня, слава Богу, нет. А в этих самых — развитых — странах имеются уже граждане, для которых такие многотысячедолларовые устройства, стоит заметить, становятся предметами первой необходимости.
Но не в вещах, как говорится, счастье. Не иметь, а быть, твердили великие гуманисты. Сегодня мы можем добавить: быть рядом с другим. Оказывается, люди хотят кучковаться. Крупные футурологи прокалываются в своих прогнозах, игнорируя эту человеческую слабость. Э.Тоффлер предрекал полную демассификацию труда, то есть переход на надомный труд, что для многих видов работы вполне возможно уже теперь. Увы, люди не спешат уединяться. Как пишет Джон Нейсбит, «нам нужна душевная атмосфера офиса». Когда появились телевизоры с большим экраном, другой футуролог предположил, что в скором времени исчезнут кинотеатры. Но люди в обществе общения продолжают ходить в кино. Не следует ли отсюда, что там, где кинотеатры переоборудуют в магазины, банки и рестораны, общество общения отсутствует?
ЧЕМУ УЧИТЬ?
Вернемся к адаптации. Можно сказать и так: человек в информационном обществе адаптируется к социальным нормам. Ими надо овладевать. Возможно, различие людей по социальному статусу в этом обществе определяется, в первую очередь, способностью адаптироваться к нормам, понимаемым в широком смысле. Это не только правовые и моральные нормы, но и неуловимые оттенки переменчивых социальных ожиданий, на которые гении общения бессознательно, а то и намеренно, отвечают в речи, жестах, мимике, одежде и многом другом. Им гарантирован успех. А что делать обычным людям, не гениям? Учиться, понимая, что бедные и неуспешные — это уже не те, кто слаб физически и интеллектуально, а те, кто не умеет общаться. Тыкаться надо, господа. Это говорю вам я — мизантроп по натуре, с удивлением взирающий на людей, умеющих извлекать прибыль чисто из общения.
В обществе общения непрерывно растет объем межличностных связей, личных контактов. Образуются общественные организации, секты, движения, всевозможные community и т.п. В нем непрерывно идут общественные дискуссии на местном и общенациональном уровне. В этом коммуникативно плотном, дискутирующем обществе неизбежен рост конфликтности. Прямое этому подтверждение — неумолимо растущая преступность. Здесь я хочу, может быть, и неожиданно перевести разговор в другую плоскость. Почему в обычной школе так много внимания уделяется математике? Ответ, конечно, последует такой: изучение математики необходимо для развития мышления. Математика — это рассуждения в чистом виде. Мало кто из школьников станет ученым, но считается, что, поднаторев в математических доказательствах, человек обретет умение последовательно и четко мыслить. Все верно, только мышление это — моносубъектное, я бы сказал, не вполне соответствующее обществу общения. Оно зародилось и стало потребным в ситуациях, где индивид (субъект) один на один противостоял объекту, пытался овладеть им, то есть в актах индивидуальной предметной деятельности. Это — инженерное мышление. Обществу общения больше отвечает парадигма полисубъекта. И для развития мышления здесь больше подходит право. Действительно, юридические задачи в этом отношении нисколько не хуже математических. Но их субстанция — столкновение интересов, разрешение конфликтов, достижение компромиссов, — то есть наиболее сложные коммуникативные ситуации. Придя к этому выводу, я натолкнулся, к счастью, на аналогичную мысль известного украинского философа права Богдана Кистяковского. В статье для знаменитых «Вех» (1909) он писал: «Право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология… Главное же, в противоположность индивидуальному характеру этих последних дисциплинирующих систем право — по преимуществу социальная система и притом единственная социально дисциплинирующая система».
«ЧИСТОЕ» ОБЩЕСТВО
Переходя от одного типа общества к другому, люди пересматривают историю. Яркий пример — модель Карла Маркса, в которой исторические периоды определяются сменой способов производства. Так видит прошлое индустриальный человек. На пороге информационной эры Маршалл Маклюэн предложил другую модель: оказывается, что характер каждой эпохи задает существенный прорыв в развитии средств коммуникации. Можно сказать, просто «средств», ибо, по М.Маклюэну, все есть средства коммуникации: язык, деньги, дороги, самолеты, оружие и т.д., до бесконечности. Итак, Природа, Техника, Информация — это ключевые категории, или базовые метафоры, схватывающие суть каждой из трех волн Э.Тоффлера. И навязывающие соответствующую ретроспективу. Какая следующая категория? Полагаю, это будет ЧИСТОТА.
Знаки нового обнаруживаются в разнообразных феноменах — теориях, мифах, банальностях. Вот теперь говорят, что все беды наших организмов от накапливающихся шлаков. Причина любой болезни в этом. Значит, основа медицины — очистительные процедуры. Сегодня о них много пишут. Народ, следящий за достижениями науки, активно очищается. Русско-американский культуролог Михаил Эпштейн придумал оригинальную гипотезу происхождения культуры. Все дело в самоочищении (grooming). Чиститься — значит отделять себя от натуры, сбрасывать ее с себя. Киотский протокол не случайно киотский, а не, скажем, московский. У японцев чистота возводится в культ. У них стандарты чистоты продуктов выше стандартов ВОЗ (всемирная организация здравоохранения). Такие продукты дороже, японцам не выгодна глобализация торговли. Вспомнили еще о гонениях на евреев в средние века, когда буйствовала чума. Евреев обвиняли в отравлении колодцев: в их поселениях заболеваний почти не было. А дело в том, что евреи мыли руки перед едой, чего никто тогда не делал. Но только ли руки мыть предписывает Тора? Чистота — одна из ключевых категорий Ветхого завета. И не только санитарная, но нравственная. Грядет новый взгляд на мир и на прошлое. Ясно, откуда все это — от беспокойства об экологическом состоянии планеты. Сюда нацелена сегодня общественная мысль. Эта тема раскручивается в СМИ. И на что бы теперь человек ни смотрел — на муху, сучащую лапками, на дымящие заводские трубы, еще полвека назад символизирующие прогресс, на валяющиеся по дворам пластиковые пакеты — его влечет к себе чистота как платоновская идея. Прилагательное при слове «общество» — констатирует положение дел, но и указывает на главную проблему. Чистое общество состоит из людей, ясно понимающих, что дело теперь не в еде, не в вещах, не в информации. Дело в выживании человечества.
Выпуск газеты №:
№97, (2004)Section
Общество





