Пограничное сознание
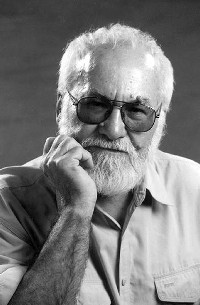
Похоже, что слово «глобализация» вошло в общественно-политическую лексику всерьез и надолго. И по мере того, как оно становится все более популярным, в сознании обывателя, — благодаря TV, — глобализация все чаще ассоциируется с беспорядками на улицах благополучных западных городов в дни, когда там проходят международные форумы. Давненько в мировом общественном мнении не было темы, связанной со столь активным протестным поведением. И кое- кто, пользуясь привычной терминологией, уже говорит, что расширение глобализации и сопротивление ей — это основное противоречие современной эпохи. Мир снова расколот. Не на две соперничающие и сдерживающие друг друга системы, а на богатых и бедных. На небольшую группу индустриальных стран, так называемых decision-makers, и всех остальных. Сюда, говорят нам, переместился источник грядущих столкновений.
СНОВА ДВА ЛАГЕРЯ?
Меня больше интересует не реальность «сама по себе», а реальность социально конструируемая. И вот вопрос: а что, разве раньше не было этого разделения на богатые и бедные страны? Было, конечно. Тогда почему оно не подчеркивалось так остро, не представлялось как фундаментальный раскол мира? Да потому, что довольствовались другим расколом. О глобализации и столкновении цивилизаций заговорили тогда, когда неожиданно исчез социалистический лагерь и мир перестал быть двухполюсным. Так вот, не обстоит ли дело так, что столкновительное мышление просто нашло себе новый предмет. Оно всегда найдет в реальности то, что представит как борьбу. Оно мобилизует массы, которые втянутся в столкновение. Носитель такого мышления с фактами в руках будет доказывать, что глобализация — новая форма порабощения и экплуатации, что после столь длительного в ХХ веке идейного противостояния в мире складывается противостояние более натуральное, так сказать, витальное — противостояние сытых и голодных.
Так представляет дело одна сторона. Другая, в тоне подобающем тому, кто уверен в своем прочном положении, заявляет о глобализации как неизбежном процессе развития человечества. О неизбежном единении мира, так что «мы не можем построить свое будущее, не помогая другим построить их будущее». Такого рода заявления проще всего отнести на счет идеологической риторики. Мы, дескать, не лыком шиты, знаем, что они так говорят, потому что им так надо говорить. А за всеми этими красивыми речами известные интересы известных кругов и сил.
Скучно, господа, скучно... Скучно слушать этих мастеров по выискиванию вторых смыслов. Скучно, даже если эти самые интересы где-то там действительно стоят. Все это старо, и началось с пещерного века. Мир не изменится к лучшему, если люди не возьмутся за изменение своего сознания. Если не обретет силу философия широкого горизонта, в которой открытость, доверие, солидарность, человек, и человечество станут главными категориями.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Во времена, когда меня учили философии, говорить о человеке вообще было предосудительно. Это называлось «абстрактным гуманизмом». Мне объясняли, что человека вообще не бывает. Истина всегда конкретна, и мы всегда имеем дело с тем или иным человеком. И что бы этот человек ни делал, в его делах, даже помимо его воли, обязательно будут выражаться интересы определенного класса. На жизненных примерах я наблюдал классовый подход in action. Скажем, милый, аполитичный человек написал роман. И оказалось, к его удивлению, что роман-то реакционный. Автор оправдывается: вовсе не то, мол, имел в виду. Но знающие люди весьма квалифицированно показывали, что при хороших субъективных намерениях, у автора, в силу идеологической слепоты, получилось объективно вредное сочинение. Идеи, в нем выраженные, являются буржуазными, чаще мелкобуржуазными, а потому им должен быть дан отпор.
К концу эпохи вот такого мировоззрения появились иные мотивы. Стали говорить об общечеловеческих ценностях. Некоторое время трудно было понять, что главнее — классовые или общечеловеческие ценности. Занялись поиском соответствующих цитат у классиков. Пока идеологи в этом разбирались, пришло новое время, и сами те идеологи ликвидировались как класс. Одни переквалифицировались в банкиров и собственников приватизированных предприятий, другие запели новые песни.
Конечно, человека можно считать представителем, имея в виду то, что он включен в некоторую социальную группу — семью, нацию и т.д. Можно рассуждать, насколько эта включенность влияет на характер мышления. Но, мне кажется, время представителей прошло. В глобально расширяющемся дискурсе человек интересен как личность, представляющая саму себя, и как гражданин мира, представляющий все человечество. Рассуждения вокруг так называемых национально-культурных особенностей на мировом рынке идей не котируются. Эти особенности у всех есть, у всех свои. Они для домашнего употребления. В контексте глобального разговора это никого не интересует.
ОТКРЫТЫЙ ЧЕЛОВЕК И ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО
В писаниях и разговорах, расчитанных на широкую публику, с открытым обществом асоциируется прозрачность государственных границ. Для людей, информации, товаров и капиталов. Капиталы норовят перемещаться на ту почву, где им лучше расти, товары — туда, где выгоднее продаться, информация желает быть воспринятой как можно большим числом пользователей и, как свободный дух, присутствовать везде. Ну а люди, известно, — люди хотят быть там, где лучше жить. Эти четыре сущности как бы взаимозаменяемы. Люди, к примеру, могут играть роль товара. И в криминальном смысле — «живой товар», и в политэкономическом. Когда западное общество тревожится оттого, что с Востока может хлынуть дешевая рабочая сила, и у них там возникнут проблемы с работой, об этом и речь. Так вот, идеологи открытого общества взывают именно к такой, так сказать, банальной открытости. Чтобы «железный занавес» оставался впредь только жутким символом прошлого.
Если бы я составлял Философский словарь, то обязательно включил бы в него понятие «граница». И, кстати, не включил бы многое, из того, что до сих пор имеется в словарях, рекомендуемых нашим студентам. Так вот, идея границы неявно присутствует в разных философских суждениях. Когда говорят, вслед за Кантом, что моя свобода оканчивается там, где начинается свобода другого, речь, конечно, о границе. И со всем другим, — с тем, что мое, — так же. Вообще, МЫ оканчиваемся там, где начинаются ОНИ. Это «мы и они» всегда ассоциируется со смутным напряжением. У них все не так, как у нас. Иногда это «не так» означает негативность: то, что у них, — аморально, алогично, безобразно. Часто мы пользуемся другими словами — любопытно, интересно, забавно.
Существует весьма правдоподобное предположение, что люди созданы природой для жизни в малых группах, где они знают друг друга в лицо. Естественные малые сообщества по необходимости закрыты и, стало быть, о-граничены. Большую часть своей истории homo sapiens прожил именно в этих условиях. По-видимому, мышление в категориях «мы» и «они», «свой» и «чужой» отсюда и происходит.
Закрытость и открытость как характеристики социальной жизни активно использовал Карл Поппер. От его раскрученной у нас книги «Открытое общество и его враги», и пошло модное ныне «открытое общество» Для К.Поппера открытость является скорее внутренней характеристикой общества. Все, в общем, сводится к индивидуальной свободе. В открытом обществе нет закрепленных законом сословных или кастовых перегородок, — стало быть, ведется свободная конкуренция за статус, — и можно сегодня добавить, — поддерживается высокий уровень свободы информации. В закрытом обществе такая свобода отсутствует. И дело не в том, что есть люди у власти, которые свободу ограничивают. Просто в этом общество царят табу, обычаи, предрассудки и все, что происходит с индивидом, ими предопределено. Для меня ярким примером такого предопрелеления является способ образования семьи в архаических культурах. Люди там не сходятся по любви, а сводятся обычаем. Сочетаются в браке не конкретные индивиды, а, так сказать, определенные позиции в структуре племени. Конечно, эти позиции занимают индивиды, но их личные отношения друг к другу не имеют значения. В шутку можно сказать, что у них половые связи должны быть исключительно необходимыми, а не случайными.
Как я уже заметил, книга К.Поппера «Открытое общество и его враги» была хорошо раскручена. Потому-то с его именем и связывают обычно понятие «открытое общество». Не так широко известен у нас Анри Бергсон — замечательный французский философ, который впервые ввел это понятие как частный случай открытости вообще. В книге «Два источника морали и религии», вышедшей за двенадцать лет до книги К.Поппера, А.Бергсон относил характеристики «закрытость» и «открытость» не только к обществу в целом, но и другим категориям — душе, морали, справедливости и т.д.
Закрытая мораль — это, в общем, то, что мы обычно и понимаем под моралью — система норм. Ее назначение — укреплять сплоченность социальной группы. Через норму общество, в лице родителей, школьных учителей, священников и прочих людей, взывает к человеку, чтобы дисциплинировать его. Здесь неизбежно присутствие принуждения или, как выражается А.Бергсон, «социального давления». Открытая мораль принципиально иная. Ее источник — исключительная личность, человек, обладающий харизмой, тот, само существование которого есть призыв. Такой человек прорывается к человечеству, оставляя позади частные, групповые интересы. Причем человечество здесь не количественная характеристика. Нельзя прийти к человечеству, к соотвествующему мышлению и чувствованию, двигаясь последовательно — от семьи, к нации и т.д. Это именно прорыв. «Между нацией, как бы велика она ни была, и человечеством — пишет А.Бергсон, — существует та же огромная дистанция, что отделяет конечное от бесконечного, закрытое от открытого». Можно сказать, что человечество есть человек. Это имели в виду авторы «Всеобщей декларации прав человека».
ПРОРЫВЫ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Великие реформаторы духовной жизни, за которыми идут миллионы, идут без всякого давления, а с радостью, с любовной страстью, они — люди открытой души. «Увлеченные их примером, мы присоединяемся к ним, как к армии завоевателей» (А.Бергсон). Это нечто иррациональное. Здесь действует интуиция, мощный творческий порыв, тайна и любовь. Да, это так. И все-таки можно указать рациональным образом на некие основания человеческого единения или, словами А.Бергсона, пути «продолжения социальной солидарности в человеческое братство». Это, прежде всего, Бог и Разум. Вначале о Боге. Сказано: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). Раз все вы одно в духе, все остальное — малосущественные детали. Но это не констатация факта, это — призыв и задача. Человека, ставшего на этот путь вслед за Христом — «героем» открытой морали, ожидают парадоксы и неимоверные трудности. Если «не убий», то не убий никого — вот какова открытая или полная, или абсолютная мораль. Но как же быть тогда с защитой отечества с оружием в руках? И почему церковь благославляет ратный подвиг? А дело в том, что люди, прорвавшиеся к человечеству, вынуждены жить в конкретных, имеющих границы, сообществах. Столкновение морали открытой и морали закрытой неизбежно. Другим «героем» открытой морали А.Бергсон считает Сократа. Здесь основание единения — Разум, здесь действует не религия, а философия. «В разуме, посредством которого мы все объединяемся, философы демонстрируют нам человечество, чтобы показать нам выдающееся достоинство человеческой личности, право всех на уважение». Я бы назвал «героем» открытой морали и К.Маркса. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — это не так банально, как принято сегодня считать. Конечно, вначале — это призыв к борьбе. Но в конечном итоге — прорыв к человечеству. Основанием единения является здесь, конечно, Труд. Не так уж далеки от истины те, кто, взирая на современную жизнь, немыслимую без культа труда, настаивают на том, что К.Маркс в своих предсказаниях оказался во многом прав.
Что же сегодня? А сегодня прорыв к человечеству перестает быть делом отдельных духовных лидеров. Это уже, как говорят, — дело техники. Нет, герои открытой морали имеются, их много. Их усилия направлены чаще на обыденную сторону жизни и результаты не бросаются в глаза. Бог, Разум, Труд остаются, не отменяются. Между тем появляется и нечто новое — просто человек, который страдает. Такой человек, возразят мне, был всегда! Да, но сегодня, так я думаю, приходит понимание, что конечной целью единения на основе Бога, Разума, Труда, Природы, Прав человека и т.д. является устроение жизни по-человечески. Облегчать страдания человека, снижать уровень жестокости в мире — многие люди сегодня считают это делом своей жизни. Создаются международные организации, со словами в их названиях — «без границ». Глобализация такого умонастрения — задача наступившего века.
Выпуск газеты №:
№172, (2001)Section
Общество





