Владимир НИКИТИН:
«Наше высшее образование не встроено в мировой рынок тру да»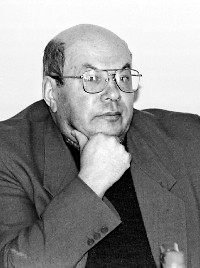
— Владимир Африканович, после вашего доклада создается впечатление, что текст этого Закона — некая ширма, которая прикрывает не очень-то блестящее положение вещей в нашем высшем образовании. Но по новому Закону нам так или иначе придется жить…
— Надеюсь, что все-таки не придется. Эта ширма прикрывает то, что у нас образовательный процесс застыл на уровне 80-х годов. Для советского времени подобный закон был бы идеален, но сейчас он не адекватен ни ситуации в мире, ни ситуации в стране. Он не поможет образованию Украины выйти из кризиса, стремясь только удержать то, что распадается. Слава Богу, что в Украине не было никаких резких сдвигов в образовании на протяжении этих пяти-семи последних лет, и мы сумели сохранить систему образования как функционирующее целое. Но это не значит, что нужно ее законсервировать, что нужно оставить ее развиваться спонтанно: есть вещи вполне проектируемые и программируемые. К тому же, этот вариант Закона противоречит всему, уже высказанному ранее. Технологическое развитие, интеграция с последующим вхождением в европейские структуры, рыночные отношения, — что из этого, уже принятого, концептуального есть в Законе? Еще в 1993 году была принята Государственная программа развития высшего образования, где закреплялись весьма благие намерения, так вот, этот вариант закона противоречит и ей.
В законе закрепляются унифицированные программы, блокируется появление новых специальностей и направлений. Как в старом анекдоте. Шум на улице, барыня спрашивает горничную о причинах. Та отвечает: «Рабочие протестуют, хотят, чтобы не было богатых». Барыня удивляется: «Странно, а мой дедушка-декабрист хотел, чтобы не было бедных». Закон тоже не хочет, чтобы у нас появились богатые. Ведь в том варианте, который был принят ВР, в примечаниях вообще был пункт: «В ближайшие десять лет довести процент негосударственных вузов до нуля». Сейчас эту формулировку уже сняли, но тенденция устрашает.
Образование в XXI веке становится, помимо всего прочего, крупным бизнесом, который сильно влияет на мировую политику. Почему американские университеты так много и радостно сотрудничают с российскими и украинскими университетами? Потому что Госдепартамент США выдает на эти контакты немалые добавочные субсидии, чтобы университеты отыскивали те самые «точки», куда можно перемещать американские технологии. Россия и Украина в этой ситуации становятся «полем битвы», и кто раньше и обширнее здесь «угнездится», тот получит немалые преимущества.
«ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ МАССИВЫ ПАССИВНЫХ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ МЫ НЕ МОЖЕМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?»
— У нас существует миф об очень высоком уровне украинского образования. По формальным статистическим показателям количества университетов, докторов наук, студентов Украина выглядит очень неплохо, особенно если сравнивать с показателями Африки, Азии и Латинской Америки. Но вот в отчете Мирового банка за 1996 год есть прелюбопытная таблица: по одной оси — «знаниевая подготовка», а по другой — уровень «применяемости» знаний в разных условиях. Так вот, первое, «формальное знание», на порядок превышает у студентов и школьников Украины показатели их сверстников из Америки и Европы. Но стоит нашего «среднестатистического» студента поместить в критическую ситуацию — все меняется с точностью «до наоборот». Спрашивается: зачем нам нужны массивы пассивных знаний, если мы не можем их использовать? Ведь в мире изменилась сама структура подготовки и востребованности специалистов. Мы очень хорошо усвоили идеи немецкого университета рубежа XIX-XX веков и все способы подготовки ученых перенесли на наши советские условия и специальности. Но ведь во второй половине ХХ века появились совершенно иные специальности, требующие совершенно иной подготовки.
Наше образование сформировалось в принципиальных антирыночных условиях, которые готовили специалистов, не знающих и не понимающих, что такое конкуренция. В западной системе образования конкуренция является одним из важных элементов подготовки. Сегодня на всеобщее умение динамически применять знания уже «наслаивается» другая технология, базирующаяся на идеологии партнерства.
— То есть «партнерство ради мира» — это не просто красивый лозунг, удачный слоган, а стиль ведения дел?
— Да, это новый принцип взаимоотношений, которому учат, в том числе — и в высшей школе. Но безудержная конкуренция последних десятилетий уже стала менять мировую систему. Примером анализа этой угрожающей ситуации служит книга Джорджа Сороса «Кризис мирового капитализма». Он является отнюдь не теоретиком экономической борьбы и утверждает, что бесконечная конкуренция разрушительна, что она и приводит к кризису, из которого можно выйти только благодаря партнерству. Так вот наше образование к этой идее абсолютно не готово.
— А западная модель немедленно на такую новую доктрину «перестроилась»?
— Да, там все началось с того, что Умберто Эко назвал «новым средневековьем». Не только новое варварство, но и свободный выбор пути обучения. Сейчас можно, как в те далекие времена, бродить из одного университета в другой, выстраивая собственную программу и получая соответствующий документ. Это и есть тот самый европейский стандарт, о котором мы так много наслышаны: возможность учиться в разных учебных заведениях, получая сопоставимые документы. Наши учебные заведения, программы, документы не соответствуют этому стандарту, у нас нет возможности учиться в разных университетах даже внутри страны. В мире же уже сложилась образовательная структура, создающая возможность получать те самые индивидуальные траектории, которые дают реальную возможность развиваться личности, а не читать книжки о духовном развитии. Личность реализуется не посредством нормативных ограничений, а через свободу выбора. К тому же, ни в одной европейской стране, даже во Франции, славящейся бюрократической жесткостью в образовании, нет такого, как у нас, контроля за содержанием обучения, но есть контроль над качеством выходного продукта. Государственный контроль за содержанием и есть суть идеологического давления, с которым мы якобы распрощались как с коммунистическим прошлым.
— А на Западе кто вырабатывает критерии качества подготовки?
— Уже созданы международные стандарты — система международных тестов проконтролирует этот уровень каждого сдающего.
— Недавно один мой знакомый выполнил здесь, в Киеве, один из таких международных тестов, и ему тут же пришла масса приглашений из различных университетов мира, о которых он вообще не знал. Так что, людей заносят в базу данных?
— Да, в мире существует рынок и спрос на выпускников с высокими показателями. В последние десятилетия в Соединенных Штатах резко сменился состав аспирантов: это уже не те белые протестанты, англосаксы, которые правили Америкой, а люди разных национальностей и рас, которых американцы набирают по всему миру. Система тестов и отслеживает перспективных студентов во всем мире, а со второго-третьего курса им подыскивают места работы основные рекрутинговые фирмы. К концу обучения прилежный студент не занимается поиском работы, а выбирает из того, что ему предлагают. В этом несчастье нашего высшего образования — оно не встроено в мировой рынок труда. Если бы украинские вузы перешли на систему тестов — наши талантливые студенты автоматически попадали бы в эти базы данных. И не было бы проблемы безработицы молодых, которая возникла у нас: скоро в Украине количество мест для студентов сравняется с количеством выпускников школ. К тому же, в последнее время появились «модные» специальности, например, юридические, которых уже сейчас перепроизводство на внутреннем рынке. А выхода на внешний рынок труда нет, поскольку наши дипломы не соответствуют уровню западных требований.
Такой важный момент: существуют рейтинги учебных заведений, которые готовят независимые агентства уже не одно десятилетие, и одним из главных показателей являются там не знания, а карьерный рост выпускников, их место работы и уровень зарплат. Конечно, по украинским вузам таких данных нет, поскольку у нашего образования критерии внутренние, педагогические, а не внешние, социальные.
«СМЕНА ПРОФЕССИЙ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ — ЭТО ТОЖЕ РЕАЛИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»
— Но ведь теряя педагогическую школу, которая в Украине достаточно интересна, мы теряем очень многое...
— Я уже говорил, что в мире появляются и развиваются многие педагогические инновации, но сами педагоги не претендуют на роль реформаторов. К примеру, когда японцы дважды делали достаточно крутые реформы образования, они не приглашали педагогов даже для разработки концепции. Делали реформы промышленники и бизнесмены, а педагоги были исполнителями. В этом нет ничего унизительного, учитель привык работать с методическими указаниями и разработками везде и всюду, в том числе и у нас. Это удобно, экономно, практично и не отменяет появления учителей-гениев, которые и в заданные параметры «вдохнут» новаторство. А если преобразование системы поручать «людям отрасли», мы тем самым еще больше «закроем» систему от проблем всего общества.
Я говорю с позиции историка и культуролога, который разделяет мнение, что общество — это система групп, вход в каждую из которых определяется разным принципом образования. Если вы хотите дать ребенку возможность начать определенную карьеру, вы должны выбрать соответствующую систему подготовки, ее особый тип. Не забывайте, что в современном мире уже сформировано мнение: профессиональная переподготовка должна происходить в течение всей жизни. Смена профессий в течение жизни поощряется. Я в своей жизни несколько раз менял профессию и тип подготовки — вместе с этим менялся образ действий, образ мира, способ существования.
Еще один вопрос, на первый взгляд теоретический, на поверку — принципиальный. Что такое образование? Это возможность войти в какую-либо из социальных групп. Теории нужны на самом деле не для того, чтобы работать, а для того, чтобы внутри профессионального общества говорить на особом языке, общаться, осуществлять коммуникацию. Но когда мы входим в технологическую систему, тогда нас профессиональные навыки не спасают. Наши университеты готовят к жизни в профессиональном сообществе, а все остальные уровни? Я уже боюсь говорить о типе подготовки, который связан с самоподготовкой, а ведь он сейчас становится невероятно важным. Упрощенное название его — «фитнесс», то есть психотехника автоготовности, которая у нас просто не осознается как важная часть обучения. Это вещи, которые невозможно получить без тренера или наставника. Знание позволяет работать в области знания, а все иные типы подготовки передаются иными техниками. Например, умение работать по образцам. Один мой близкий знакомый столкнулся с такой специфической проблемой: уже невозможно найти специалиста по ремонту старинных крыш, потому что ремесленная подготовка кончилась. И это проблема касается всей системы обучения, начиная со средней школы, где сейчас не отбирают детей, способных на высоком уровне заниматься ремеслом.
«РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ МЕШАЮТ «СВЯЩЕННЫЕ КОРОВЫ»
— У вас есть возможность сравнивать процессы, идущие в образовании в Украине и России. Даже такой простой вопрос, как вопрос учебников: экономические условия таковы, что в России выходит громадное количество альтернативных учебников по самым разным дисциплинам, которые в Украине вообще не введены в реестр высших учебных заведений. Соответственно, в России не министерство, а преподаватель своим выбором может влиять на большую потребность в том или ином учебнике, как это и происходит в большинстве развитых стран. Скажите, насколько возможен в Украине вариант, когда преподаватель станет во главу угла в процессе развития и учебников в том числе?
— Я бы не ставил вопрос «или — или». Дело не в разности учебников, а в их типе. Те учебники, по которым учатся молодые украинцы сегодня, — по сути, являются учебниками, подготовленными в советское время и «выданными на-гора» благодаря разного рода грантам. А для того, чтобы появились новейшие, действительно современные украинские учебники, нужно освоить совершенно иной способ организации материала, его компактной подачи.
Развитию этого педагогического разнообразия мешают многие «подводные камни» и «священные коровы». Например, почасовая оплата труда преподавателей. Она невыгодна ни экономически, ни практически — любой курс, рассчитанный на 150 часов, может быть «ужат» без особых потерь для смысла излагаемого в два-три раза, но на это не идут, поскольку тогда теряется ставка преподавателя. КЗоТ стоит на страже, регулируя таким образом «потолок ставки» и размер отпуска, и эти вещи сейчас практически не обсуждаются, хотя всем понятно, что нужно переходить на контрактную основу.
— Но ведь за последние десятилетия произошли громадные изменения, которые все-таки постепенно изменяют эти стереотипы...
— Отдельный вопрос, как они исчезают в какой-нибудь элитарной киевской школе и как — в далекой сельской, но то, что произошло с мировой культурой, так или иначе происходит и с Украиной. Изменения произошли не только в системе вообще, они произошли и с детьми. У них резко упала мотивация обучения, по разным причинам, но упала. У них изменились формы получения информации. У экологов есть такое представление: чтобы восстановить разрушенное природное равновесие, нужно действовать неестественным путем, новейшими технологиями. Так вот, если мы в ближайшее время не введем дистанционное обучение в сельских школах, не разработаем для этого весь комплекс методической литературы, не научим этому типу преподавания и таким технологиям множество молодых педагогов — никаким законом, даже великолепно написанным, украинского высшего образования мы уже не спасем.
Выпуск газеты №:
№87, (2000)Section
Общество





