«Мессианское начало в Марксе подсказывает ему воистину
библейский пафос»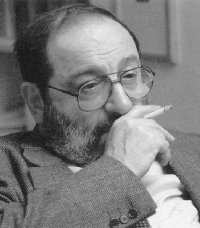
В исследовании венесуэльского литературоведа Лудовико Сильва «Литературный стиль Маркса» (1971) анализируется эволюция Маркса-писателя (не знаю, известно ли вам: Маркс сочинял, в частности, стихи, по свидетельству очевидцев, отвратные). Жаль, что Сильва посвятил «Манифесту» лишь несколько строк, видимо, из-за того, что «Манифест» создан в соавторстве. Между тем в этом изумительном тексте умело сочетаются апокалиптические интонации с иронией, броские лозунги с раскладыванием по полочкам, и (если бы капиталистическое общество захотело хоть как-то возместить урон, понесенный из-за этих нескольких страниц) его следовало бы использовать как учебный материал для сценаристов-рекламщиков.
Все начинается громовым набатом в духе «Пятой» Бетховена: «Призрак бродит по Европе!» Не будем забывать, что в эту пору литература еще недалеко отошла от предромантической и романтической готики и что призраки для нее — персонажи, воспринимаемые серьезно. Затем галопом по Европам излагается классовая борьба от Древнего Рима до зарождения и формирования буржуазии, и страницы, посвященные победам этого нового «революционного» класса, составляют его героический эпос — актуальный и до нынешнего времени, по мнению поклонников свободного рынка.
Эта новая неудержимая сила расползается (что и показано, почти как в мультфильме), ища сбыта для производимых товаров, и обволакивает всю планету. Тут, я думаю, еврейское, мессианское начало в Марксе подсказывает ему воистину библейский пафос.
Эта сила потрясает и преображает далекие страны, ибо низкие цены товаров — тяжелая артиллерия, способная свалить китайскую стену. Перед ней капитулируют и варвары, закоснелые в злобе к иноземцу. Эта сила создает и развивает города как символ и опору собственной власти. Она перерастает в силу международную, перерастает во всепланетную, порождает, в частности, и литературу уже не национального, а мирового масштаба...
В конце этого хорала (от которого у слушателей перехватывает дух) наступает кульминация: чародей не в состоянии совладать с энергией, которую сам же и вызвал; он, победитель, задыхается от собственного перепроизводства. И он вынужден рождать собственными чреслами, исторгать из собственной утробы своего могильщика — пролетариат.
Мощной поступью выходит на просцениум эта новейшая сила, которая, до тех пор разобщенная, смятенная, сокрушала машины, чтобы отвести душу. Но затем буржуазия сумела использовать ее как ударную массу, и ей пришлось поражать врагов собственного врага: абсолютные монархии, латифундии, мелкую буржуазию.
Постепенно пролетариат абсорбирует тех своих противников, которых крупная буржуазия превратила в пролетариев: ремесленников, торговцев, крестьян-землевладельцев. Протест перерастает в организованную борьбу. Рабочие налаживают взаимные контакты с помощью новых средств, которые буржуазия разработала для своего удобства, — то есть путей сообщения. В этом пассаже «Манифеста» имеются в виду железные дороги, но мы можем вообразить вместо них другие массовые коммуникации. Не будем забывать, что в «Святом семействе» Маркс и Энгельс сумели использовать телевидение того времени (то есть роман-фельетон) в качестве модели коллективного воображаемого. Критикуя идеологию, они использовали язык и ситуации, введенные в моду именно романом-фельетоном.
Тут приходит время выхода на сцену коммунистов. Прежде чем определить в программной форме кто они такие и чего им надо, «Манифест» (великолепным риторическим приемом!) как будто становится на место того самого буржуа, который коммунистами напуган, и выдает кучу ошарашенных вопросов:
— Вы хотите отменить собственность? Вы хотите обобществления женщин? Хотите разрушить религию, родину, семейство?
И здесь игра становится очень тонкой, потому что «Манифест» отвечает на все эти вопросы, казалось бы, успокоительно, будто желая умиротворить противника, — но затем внезапно наносит ему удар под дых, под рукоплескания пролетарского партера.
Что, уничтожить собственность? Не то чтобы... Отношения собственности во все времена трансформировались... Не Французская ли революция преобразовала феодальную собственность в собственность буржуазную? Мы хотим отменить частную собственность? Нелепость! Да ее не существует, вы говорите о том, чем обладает одна десятая часть населения в ущерб остальным девяти десятым... А, вы опасаетесь, что мы угрожаем «вашей» собственности? Вот это точно, мы угрожаем именно ей!
Обобществление женщин? Да бросьте, мы просто собираемся избавить их от роли орудий производства. Вы вправду думаете, что мы намерены обобществить жен? Да это давно сделано вами самими, и наряду с собственными женами вы пользуетесь женами пролетариев, а вдобавок соблазняете еще и жен таких же, как вы, буржуев!
Отменить родину? О чем вы? Как можно отобрать у рабочих то, чего у них нет? Мы как раз и хотим, чтобы пролетарии всех стран обрели себе общую родину!
И далее в подобном духе, вплоть до шедевра увиливания, каким является ответ о религии. Интуитивно-то понятно, что ответ такой: «Эту религию мы хотим уничтожить». Но впрямую этого не сказано. Затронув столь деликатную тему, текст уходит в сторону, укрывается за намеками, что, мол, любые превращения имеют цену, но ей-же-ей, не имеет смысла нахрапом решать такие горячие проблемы.
Затем начинается теоретическая часть — программа движения, критика различных социализмов, — но, дойдя до этого места, читатель уже покорен предыдущими страницами. И если теоретическая часть отпугнет кое-кого своей сложностью, то в финале его ожидает избавительный всплеск, два лозунга, один другого убойнее, простые, запоминающиеся и исполненные, с моей точки зрения, непревзойденного совершенства: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Достигнув подобных поэтических и метафорических высот, «Манифест» и поныне остается незаурядным памятником политического (и не только политического) ораторства. Его надо проходить в пятом классе наряду с цицероновскими речами против Катилины и монологом Марка Антония над телом Юлия Цезаря в трагедии Шекспира.
«Итоги», № 19
Выпуск газеты №:
№155, (1998)Section
Подробности





