Монополия на зависимость судов нарушена
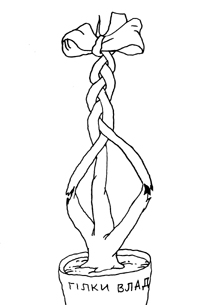
Известие об оправдании судом гражданина, подозреваемого в убийстве журналиста Александрова, облетело на прошлой неделе отечественные СМИ и сопровождалось достаточно интересными комментариями. Основным в этих комментариях был шок. А как же иначе? Милиция и прокуратура уже давно овладели все оправдывающим аргументом — мы разыскиваем, они, т.е. судьи, не «садят». Поэтому и преступность. Взаимные обвинения органов следствия и судов, которые не ведут ни к каким последствиям, перебрасываются ими, как теннисный мячик. Под стук этого мячика мы не заметили, как со вводом в действие Закона о судопроизводстве получили независимый суд. К чему оказались не готовыми практически все, начиная с самого суда.
Общество еще не осознало всей важности появления реальной судебной власти. Как осознать то, чего никогда не было? Ныне сущие граждане не знают другого суда, чем тот, который был, а поэтому не отделяют суд от массива всесильной и всеохватывающей государственной власти. Суд всегда был частью действующей власти, последнее слово в принципиальных вопросах всегда оставалось за властью. Так мы и жили, так и сформировалась наше представление о мире. Нет, мы слышали что-то, читали и в кино видели. Сенсационные процессы, судебные прецеденты, решения присяжных и прочее. Но это все воспринималось, скорее всего, как приключения многодетных и щедрых на любовь мексиканцев в их сериалах. Никакой связи с нашей реальной жизнью все эти демократические штучки не имели. И вдруг — на тебе! Любой райсуд может аннулировать решение служащего самого высокого ранга или самого высокого органа, если оно противоречит закону. В общем, нормально — если противоречит, то следует отменять. Но представить себе, как скромный суд какого-нибудь района признает незаконным решение об освобождении от должности премьер- министра Украины президентским указом? Чтобы представить такое, следует элементарно признать равенство всех перед законом, который, в свою очередь, одинаков для всех. Не возмущаться нахальством районного судьи, а принимать все решения в строгом соответствии с Законом.
Мешает признать такую простую вещь сразу несколько моментов. С одной стороны, законодательная власть должна принимать законы, которыми можно руководствоваться, которые бы согласовывались с Конституцией и один с другим. И не только принимать законы, а и строго их придерживаться. Это же касается исполнительной власти, которая традиционно считает, что ей можно все. Кто бы иначе к этой власти стремился? Поэтому сопротивление новому судопроизводству со стороны власти, особенно на местах, будет достаточно мощным. Сначала будут попытки довести ситуацию до абсурда, завалив суд несвойственными ему до сих пор делами и показав неэффективность его работы. Пример — хотя бы пресловутые штрафы на водителей, нарушителей правил дорожного движения, которые теперь налагает не инспектор ГАИ, а суд. Действительно неудобно. А когда справедливость была удобной? Мы увидим еще не одну попытку дискредитировать суд, услышим в адрес суда еще не одно обвинение. Но назад дороги нет, позади беззаконие, которого мы уже даже и не замечаем.
Наибольшей проблемой становления суда, как реальной третьей власти, является сам суд. Зная, кто работает в наших судах, вспоминая сотни случаев злоупотребления судьями своим служебным положением, можно вдруг испугаться власти, которой теперь наделены эти люди. Неподконтрольный суд, который целиком способен «результативно ошибиться» в определенную сторону, на первый взгляд, выглядит монстром, на которого нет управы. С другой стороны, а разве лучше, когда таким монстром является власть? Жили же мы при власти, которая была неподконтрольной и делала что хотела. И ничего, выжили как-то. Теперь наступает время спора между властью и судом, которому не будет конца. И не должно быть! Именно этот спор и обеспечит нам впоследствии равновесие ветвей власти, об отсутствии которого так любят жалобно стонать те, кто не добрался до желанной «ветви».
Относительно так называемых «резонансных» судебных дел, о которых охотно рассказывают СМИ, то в настоящем понимании этих дел у нас пока что не было. Разве было у нас такое, чтобы широкие круги общества загодя знали о дне рассмотрения дела известного коррупционера в обычном районном суде? Чтобы подробности судебного заседания, речи прокуроров, адвокатов и свидетелей оперативно демонстрировались в новостях? Чтобы рядовой судья в районе знал, что за его действиями реально следит вся страна в прямом эфире? Думаю, что подобный процесс возвратил бы народ к радиоприемникам, как когда-то первый съезд народных депутатов СССР в 1989 году. Пока же мы имеем только изложение судебных решений в интерпретации СМИ или одной из сторон процесса, что не способствует установлению доверия к суду.
Вспомните, как накануне парламентских выборов политические оппоненты бросали взаимные обвинения в нарушениях закона. Эти обвинения мы видели и слышали в прямом эфире. Слышали также обещания подать в суд. Так почему не быть последовательными и действительно не передать дело в суд при условии полного освещения судебного рассмотрения в СМИ? Не будет этого. Потому что сама лишь перспектива обнародования подробностей собственной деятельности сделает молчаливыми значительную часть шумных политиков. Чем не пример положительного воздействия на политику независимого суда, который самим только своим существованием вносит определенную стабильность в политическую жизнь?
Можно было бы дать волю фантазии и представить себе спор в суде известных в стране политических деятелей. Но зачем делать это за них? Они уже все себе хорошо представили и думают теперь, как жить дальше в условиях нашего суда. Не «гуманного», как когда-то, а просто независимого. Иногда.
Выпуск газеты №:
№88, (2002)Section
Подробности





