Новая партия для Нового мира, или Цепная реакция радикализма
К столетию II съезда РСДРП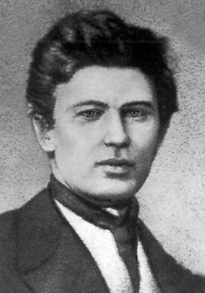
30 июля 1903 года в Брюсселе 43 делегата из далекой восточной империи Романовых в обстановке глубокой секретности собрались на II съезд только зарождавшейся тогда левой политической организации — Российской социал-демократической рабочей партии. После того как удалось провести тринадцать заседаний съезда, бельгийская полиция, узнав о проходящем мероприятии опасных радикалов, предупредила, что вынуждена будет принять соответствующие меры. Делегаты должны были перебраться в Лондон, где заседания проходили в одной из местных церквей. 23 августа 1903 года (10 августа по старому стилю) съезд завершил работу, главным итогом которой стало организационное оформление внутри российской социал-демократии большевизма как прообраза небывалой для ХХ века политической партии «нового типа» (как писал Ленин, а вслед за ним — присяжные идеологи КПСС).
Большинство студентов советской эпохи вынуждены были выполнять тяжкую повинность — зубрить перед экзаменами по истории КПСС вопросы о ходе, результатах и историческом значении II съезда российских социал-демократов. Итог всего этого — стойкая интеллектуальная аллергия к данной теме. Молодые историки во многих случаях об этом съезде осведомлены довольно слабо. А между тем речь идет о действительно более чем заметном событии в кровавой истории ХХ века — ибо именно с теми летними днями 1903 года следует связывать начало уникального ленинского политтехнологического проекта. Если бы Владимиру Ильичу не удалось в то время реализовать свою идею: создать революционную организацию, членам которой «некогда думать об игрушечных формах демократизма», — он не получил бы в свои руки столь острого орудия политической борьбы и, более того, вся история Российской империи и ее составляющих, Надднепрянской Украины в частности, могла бы сложиться иначе.
Эти 43 делегата сначала в брюссельских рабочих кафе, затем в лондонской «социалистической» церкви (были и такие!) жестоко, до хрипоты, спорили о мелочах — так им тогда казалось, — о принципах, по которым будет организована новая партия, об отдельных пунктах ее устава... Но не эти ли «мелочи» превратили — и довольно скоро! — бывших товарищей по одной партии, радикалов-большевиков и «умеренных» (автору кажется, что этот термин точнее, чем привычное всем «меньшевики», поскольку вопрос о том, кто действительно получил большинство на съезде, не столь прост, основательно запутан десятилетиями казенной пропаганды и требует специального рассмотрения) во врагов? По свидетельству современников, Ленин в начале 20-х годов, будучи уже главой Советского правительства, не раз признавался в своей ненависти к «меньшевикам» и поступал с ними соответственно (сделав лишь одно исключение для своего старого друга Мартова и отпустив его, смертельно больного, за границу). Значит, совсем не мелочи разделяли тогда делегатов. А что же?
Не все спорящие поняли, что Владимир Ильич хотел создать действительно уникальную партию — объединение радикальных борцов-единомышленников, сплоченных между собой не так членством в организации, как единством общей веры, но веры в идеологическую доктрину Маркса (крайне узко понимаемую!), действующих в условиях строжайшей конспирации, вынужденно, как все считали, и сознательно выбросивших как хлам принципы формальной демократии в отношениях между собой (роковая ошибка т.к. понадобились десятилетия крови и борьбы, чтобы старые большевики и уцелевшие «умеренные» меньшевики в дискуссиях за колючей проволокой сталинских лагерей осознали великую истину: демократия формальной не бывает).
Чего хотел Ленин? Обосновывая необходимость построения новой, особенной, партии лютыми преследованиями царской полиции (что действительно имело место, но ведь все познается в сравнении; вспомним о «гуманизме» НКВД), он писал: «Только неисправимый утопист хотел бы видеть широкую организацию рабочих с выборами, отчетами, широким правом голоса и т.д. при условиях самодержавия». Ибо, жестко указывал Владимир Ильич, подобная организация только помогла бы жандармам, сделав революционеров доступными полицейскому надзору. Наоборот, по мнению Ленина, «единственным серьезным организационным принципом для деятелей нашего движения должна быть: строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров» (из работы «Что делать», 1902 г.).
Эти, на первый взгляд, «нудные» цитаты необходимы, чтобы понять, на каких принципах рождалась партия, взявшая через 14 лет власть в огромной стране и начавшая там невиданную революционную ломку всего строя жизни на началах насильственного равенства — не считаясь с миллионами жертв. Украинцев среди этих жертв всегда хватало. Эта трагедия была бы невозможна, не выработай большевики особый психологический тип «профессионального революционера», человека, видевшего весь смысл жизни только в политической борьбе. Подобный тип «борца», заметим прямо, нетрудно найти и в современной Украине — причем независимо от политических взглядов; есть такие и среди левых, и среди правых, и среди центристов. Причем нынешние вольные или невольные последователи большевистской методики образовывают партии, ведомые авторитарными лидерами, очень уверенными в себе, публично обещающими доказать своим противникам, что они горько ошибаются, а в действительности руководствуются лишь одной, очень простой идеей — взять власть и ни с кем не делить ее. Это лишь подчеркивает актуальность темы...
Именно та же самая идея — взять власть и не отдавать — покорила всецело 100 лет назад и Владимира Ильича. Не потому ли он не сделал ничего ни до съезда, ни на съезде, чтобы предотвратить раскол — скорее, наоборот, ускорял его? Ведь «прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединяться — мы должны размежеваться!» Ленин считал, что дисциплинированная ударная организация важнее политической программы, метод важнее политических принципов. Именно такая организация поведет за собой пролетариат (почему-то пролетариат, от имени которого выступали, непременно нужно вести!) и не будет чем-то рыхлым, аморфным, не будет партией, скрывающей разношерстные элементы под покровом мнимого единства — вот чего Ленин не терпел!
В дни работы съезда произошел интереснейший эпизод. Делегат Посадовский («центрист») заявил буквально следующее: «Несомненно, что мы не сходимся по следующему основному вопросу: нужно ли подчинить нашу будущую политику тем или другим основным демократическим принципам, признав за ними абсолютную ценность, или же все демократические принципы должны быть подчинены исключительно выгодам нашей партии? Я решительно высказываюсь за последнее». Теперь, ровно через 100 лет после того как были произнесены эти слова, те, кто действительно помнит кровавые уроки истории, не может не признать: забытый ныне делегат блестяще наметил грань, разделяющюю партии действительно демократические и партии авторитарного, «вождистского» типа, безотносительно к идеологической окраске. Различать именно этот водораздел особенно важно для будущего.
Выпуск газеты №:
№136, (2003)Section
Подробности





