Технология независимости-2: уроки минувшего века
Коммунистическая революция в Украине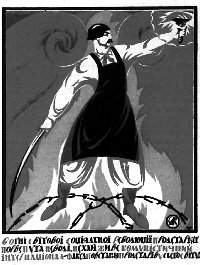
Продолжение. Начало см. в №92
ПРИРОДА СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В предыдущей статье обосновывались тезисы о Российской и Украинской революциях 1917 — 1918 гг. Обе революции постигла коммунистическая мутация. Она родилась в России и была силой привита Украине. Мутация в России оказалась советской государственностью, которую отвергали все революционные силы, но отстаивали большевики. Мутация в Украине обрела форму национальной советской государственности, навязанной народу тремя последовательными вооруженными вторжениями с севера.
В основу функционирования советов как государственных органов большевики положили принцип неделимости власти. На этом же принципе зиждилось и самодержавие. Несмотря на полярную противоположность политических режимов Российской империи и Советского Союза, между ними наблюдается преемственность: оба — носители диктатуры, а не демократии. Партия Ленина не возражала против самого факта диктатуры, но заявляла, что это — диктатура пролетариата. Правда, сразу же звучали два заявления: советы — это государственная форма диктатуры пролетариата, а большевики — революционный авангард рабочего класса. Из них логически вытекало, что после захвата контроля над советами «диктатура пролетариата» становилась диктатурой партии большевиков. Однако никто из рядовых членов многомиллионной КПРС вплоть до конца ее существования не ощущал себя диктатором.
Государственная партия строилась на принципах «демократического централизма», который требовал безусловной подчиненности ее низших звеньев высшим. Благодаря этому власть диктаторского происхождения сосредоточивалась на последней ступени компартийно-советской конструкции — в Центральном комитете РКП(б) — ВКП(б) — КПРС. Важнейшей сферой деятельности компартийных комитетов, вплоть до Центрального, стало «советское строительство», то есть создание сети советов с контролируемым составом депутатов. Непосредственно на себя партийные комитеты брали ограниченную часть государственных функций. Львиная часть управленческой работы возлагалась на исполнительные комитеты советов. Благодаря размежеванию функций партия сохраняла политическую власть, но не брала на себя ответственности за текущие дела. Советы лишались политического влияния, но наделялись полным объемом распорядительных функций. Возможные недоразумения между партийным и советским аппаратами предупреждались замещением ответственных должностей в советских учреждениях только членами партии.
Компартийно-советский тандем не случайно назвали «Советской властью» (это слово писали с прописной буквы). Через систему советов диктатура проникала в народные низы. Достигалось это путем наделения миллионов граждан реальными, хоть и ограниченными управленческими или контрольными функциями. В результате создавалась иллюзия народовластия. Сомневаться в народности такого политического режима было невозможно. Тем более, что свои кадры он черпал из народных низов. Робоче-крестьянское происхождение стало знаком высшего социального качества, подобно тому, как ранее таким знаком считалось дворянское происхождение.
Благодаря превращению советов в органы власти и образованию компартийно-советского властного тандема партия большевиков фактически разделилась на две части с принципиально различными функциями. «Внутренняя», то есть аппаратная партия была нервным центром советских, профсоюзных, силовых и других органов. «Внешняя» партия состояла из миллионов рядовых членов, которые выполняли функцию «приводного ремня» от народных низов к верхам власти. Конституционная реформа 1936 года «одела» советы в парламентские одежды. Реформу проводили партапаратчики, которые немедленно приспособились к прямым, пропорциональным и равным выборам при тайном голосовании. Как и ранее, компартийные комитеты могли дозировать социальный, демографический, национальный и партийный состав советского депутатского корпуса.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СОВЕТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
Симбиоз компартийной диктатуры с властью советских органов давал возможность выстраивать государство в произвольных формах. Видимые конструкции государства не имели значения, ибо за ними таилась не отображенная в конституциях диктатура жестко централизованной партии. Такая особенность позволила выстроить национальную советскую государственность. Внешне она казалась существенной уступкой освободительному движению.
«Независимая» советская Украина создавалась в 1917 году из тактических соображений, чтобы облегчить поглощение УНР. Однако она повлияла на разрешение судьбоносного вопроса о том, что есть Украина. Центральная Рада определяла границы образованного ею государства девятью губерниями (без Крыма) с преимущественно украинским населением. Временное правительство видело автономную УНР лишь в составе пяти губерний, территория которых была присоединена к Московскому государству в 1654 году. Такой позиции на первых порах придерживался и Совнарком. Когда возникла необходимость созвать Всеукраинский съезд советов, он снял возражения относительно восточных и южных губерний (Новороссии и Слобожанщины). Там было больше советов, чем на коренных украинских землях.
После гражданской войны Совнарком собирался «автономизировать» Украину, то есть лишить ее национальной государственности. Оказалось, однако, что джина уже выпустили из бутылки. Такую идею мало кто поддержал даже в украинских компартийно-советских кругах. В конце декабря 1920 года советская Россия и советская Украина заключили договор о военном и хозяйственном союзе как равноправные государства. Совнарком в то время разместил в Украине шесть армий численностью в 1,2 миллиона бойцов. Но было ясно, что исключительно силой такую крупную республику не удержать.
В 1921 — 1922 гг. Россия существовала как страна без названия, состоявшая из девяти (включая Дальневосточную Республику) формально независимых государств. В предпоследний день 1922 года было образовано единое союзное государство. Национальные республики поступились своим бумажным суверенитетом. Как и предыдущая «договорная» федерация, Советский Союз скреплялся диктатурой государственной партии. Этого было достаточно. Чтобы подчеркнуть равноправие союзных республик, все они в составе новой федерации получили равные с Россией права. Среди других фигурировало право на свободный выход из СССР. И.Сталин отстаивал «автономизацию» республик, но поддержал идею образования рядом с Российской новой, Союзной федерации. Популистское «право на выход» осталось за союзными республиками даже в сталинской Конституции 1936 года. Сразу после образования СССР главной линией национальной политики стала коренизация. Ее украинскую разновидность назвали «украинизацией». Политику советской украинизации не следует идеализировать. Главным содержанием ее было укоренение власти в украиноязычной среде. Коренизация должна была заставить чекистов, профессоров и пропагандистов перейти на язык того населения, в среде которого они работали. Однако советская кампания коренизации не могла не сближаться в определенных измерениях с политикой украинизации, которую осуществляли национальные правительства.
Общим знаменателем для обоих типов украинизации — национального и советского — была дерусификация. Преследуемый сотни лет родной язык украинцы теперь услышали в школах и учреждениях культуры. Украинизация осуществлялась даже за пределами Украины — в местах компактного проживания украинцев.
В отличие от других национальных республик, где коренизация ограничивалась преимущественно задачами укрепления государственной власти, в Украине она содействовала духовному возрождению. По экономическому и человеческому потенциалу УССР равнялась всем прочим национальным республикам, вместе взятым. Именно поэтому она пользовалась повышенным вниманием конкурирующих кланов в Кремле. «Лучшим другом» Украины стал И.Сталин, который посадил на самую высокую должность в республике своего подручного Л.Кагановича. Пользуясь всесторонней поддержкой Кагановича и Сталина, нарком образования Н.Скрипник «выжимал» из официальной политики украинизации максимум возможного. СОВЕТСКИЙ ТОТАЛИТАРИЗМ: ОТ РЕЖИМА К СТРОЮ
Тоталитаризм имеет десятки определений. Самое краткое формулируется через противоположное ему понятие демократии. Демократия — это господство общества над государством, тоталитаризм — господство государства над обществом. Краткое определение всегда требует пояснений. Надо пояснить, в частности, почему царское самодержавие и подобные ему абсолютистские режимы не следует квалифицировать как тоталитарный способ правления, хотя монарх был персонализированным олицетворением государства, а общество состояло из подданных, а не граждан.
Тоталитаризм мог возникнуть только на высокой стадии развития техники и экономики, когда аграрное общество превратилось в индустриальное, а рынок стал глобальным. Традиционные формы политического строя в передовых странах все больше отставали от достигнутого технико-экономического уровня, вследствие чего вспыхнули грандиозные цивилизационные кризисы — Первая мировая война 1914 — 1918 гг. и Большая экономическая депрессия 1929 — 1933 гг. В кризисной ситуации начало формироваться гражданское общество. В ряде стран из-за неблагоприятных внутренних и международных условий появилась его злокачественная мутация.
Появление тоталитарной мутации всегда было одинаковым. Некая сила поднималась из народных низов и уничтожала конкурентные формы организованной политической жизни. Практически каждому члену общества навязывались нужные только ей ценности и взгляды (технические средства для этого уже существовали). Как правило, тоталитарная диктатура имела яркую идеологическую окраску и держалась на трех китах: государственном терроре, пропаганде и воспитании.
Тоталитаризм советского образца оказался особенно живучим не случайно. Политическая и экономическая диктатуры в нем соединялись в единое целое. Фашизм или нацизм ограничивались контролем над предпринимателями и регулированием производства. Эти режимы были лишены внутренней стабильности и делали ставку на милитаризацию и войну. Компартийно-советский режим был стабильным и в условиях мира. Стабильность обеспечивалась социально-экономическими преобразованиями, которые предусматривались коммунистической доктриной. Суть их состояла в уничтожении частной собственности на средства производства и построении директивно-плановой, командной экономики.
Советская власть выстраивала адекватный себе экономический фундамент. Экспроприированные под флагами национализации или обобществления средства производства не переходили в распоряжение нации или общества. Они оказывались в формальной или фактической собственности государства, а точнее — государственной партии, и уж совсем точно — руководства Центрального комитета, которое воспользовалось принципом «демократического централизма», чтобы держать в руках все партийные и государственные структуры. Частная собственность не исчезла, как провозглашала марксистская теория. Она сосредоточилась на невероятно высоком уровне — в руках горстки вождей. Практически каждый член общества стал экономически зависимым от власти. Это обстоятельство вместе с террором, пропагандой и воспитанием как раз и обеспечивало стабильность советского строя.
Рассмотрим, что собой представляла коммунистическая революция. Была ли она составной частью событий, которые развернулись в России с февраля 1917 года? На это следует ответить отрицательно. Коммунистическая революция была типичной для истории России «реформой сверху». Одновременно ее можно назвать наиболее радикальной из всех известных истории человечества революций. В мае 1918 года В.Ленин заявил: «Нам надо совсем по-новому организовать наиболее глубокие основы человеческой жизни сотен миллионов людей». Кто может сказать, что эта установка не была реализована?
В первой статье этого цикла отмечалось, что последним этапом Российской революции следует считать период от октябрьского переворота до разгона Учредительного собрания. Свою «революцию сверху» большевики начали после завершения «триумфального шествия Советской власти», то есть с весны 1918 года. Как раз тогда появилась брошюра В.Ленина «Очередные задачи Советской власти». Коммунистическая революция становилась очередной, после установления диктатуры на периферии всей страны, задачей ленинской партии.
Почему историки не отделяли событий пролетарско-советской, то есть народной в своей основе революции 1917 — 1918 гг. от событий коммунистической, то есть партийной революции? Вероятно, и теперь дает себя знать влияние исторической концепции сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)». Совпадение стихийного экстремизма народных низов, которые требовали экспроприации собственности помещиков и буржуазии, с доктринальным экстремизмом большевистской партии наложилось на глубокую конфронтацию политических сил, сформированных в ходе Российской и Украинской революций. В этом совпадении и в этой накладке — главная интрига развернувшихся событий. Эти два ключевых обстоятельства дали ленинской партии исторический шанс, который она не упустила. Сначала большевики овладели советами изнутри, а потом начали собственные социально-экономические преобразования. Никто из тех, кто вышел на улицы Петрограда с требованием «Долой самодержавие!», не заметил, что в революционном гнезде появился большевистский птенец кукушки.
Советы выдвигали два требования, имевших отношение к частной собственности: «Фабрики — рабочим!», «Землю — крестьянам!» Эти требования совпадали с коммунистической программой большевиков «на входе», но расходились «на выходе». Вполне понятно, у кого отбирались фабрики и имения, но следует определить, кому же они достались. Тогда мы сможем не только отделить советскую революцию от коммунистической, но и поймем, почему продолжительность последней измерялась двумя десятилетиями.
Рабочие требовали передачи фабрик в собственность трудовых коллективов. Они не могли себе вообразить, как иначе можно распорядиться фабриками после их экспроприации. Однако каждый такой случай квалифицировался со стороны государства как опасный анархо-синдикализм. Средства производства должны были стать собственностью «рабоче-крестьянского» государства. «Прямое или опосредованное узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии на их выделенное производство, — подчеркивал Ленин, — является громадным извращением основных принципов советской власти» (Полное собрание сочинений — т. 36. — с. 452). Единственная уступка, на которую согласились большевики, состояла в предоставлении существенных прав рабочим организациям в сфере управления производством. Однако без управленческих или контрольных функций сотен тысяч рабочих национализованная промышленность не смогла бы существовать.
Даже вовсе обедневшие крестьяне держались за частное хозяйство и требовали поделить помещичью землю уравнительно. Таким было всем понятное содержание лозунга «Землю — крестьянам!» Перед октябрьским переворотом большевики приняли этот лозунг, но после завоевания власти сделали попытку заставить крестьян работать в совхозах или огосударствленных коммунах. Эта проба сил завершилась в пользу крестьян. Когда правительство Х.Раковского весной 1919 года начало раздавать помещичью землю совхозам и сахарным заводам, украинское крестьянство восстало, и республику захватили деникинцы. Попытки реквизиции крестьянской продукции путем продразверстки тоже привели к массовым восстаниям. В.Ленину пришлось заплатить по векселям, выданным крестьянству накануне октябрьского переворота. Рыночные отношения между городом и селом были восстановлены.
Нэп был паузой в коммунистической революции, которая благодаря борьбе за власть в Кремле растянулась почти на десятилетие. Атака на крестьян возобновилась с 1929 года. Для превращения их в колхозников были применены ужасающие методы массового террора. Чтобы втянуть крестьян в колхоз, была осуществлена депортация из республики десятков тысяч так называемых кулаков. Чтобы заставить колхозников работать на государство, Сталин применил террор голодом, от которого в Украине погибли миллионы людей. Средства, которые изымались из села с помощью колхозов, направлялись на индустриализацию. Конечной целью сталинского штурма было преобразование СССР в экономически развитое государство, способное проводить на международной арене наступательную политику.
Достижения в капитальном строительстве 30-х гг. поражают. За одно десятилетие Украина опередила по уровню индустриального развития ряд европейских стран. Но промышленный потенциал использовался для одной цели — укрепления военного могущества СССР. Накануне Второй мировой войны эта цель была достигнута. В СССР появилась развитая командная экономика — идеальный фундамент для тоталитарного режима. Крайне неэффективная, она имела одно важное преимущество перед экономикой рыночного типа: исключительно высокий мобилизационный потенциал.
Выпуск газеты №:
№97, (2002)Section
История и Я





