Культурный смысл христианства
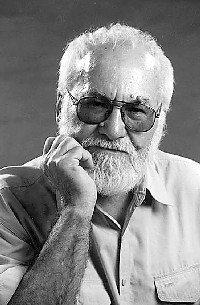
НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ АТЕИЗМА
Нигде, пожалуй, наше общество не понесло столько утрат, сколько в религиозной жизни. Под религиозной жизнью я понимаю не только жизнь церкви. Речь идет об общественном сознании, о его особой настроенности, присутствии в нем особого рода аргументации. Верующие, неверующие…Это привычное различение поверхностно, оно не отражает всю гамму отношений к мистическому. Помимо истового благоговения перед Абсолютом существует многообразие переживаний, по существу своему религиозных. Для меня верующие люди — это, прежде всего, люди почвы, т.е. люди, вобравшие в себя дух богатейшей традиции. В этом смысле они — подлинно КУЛЬТУРНЫЕ люди. Другое дело, так сказать, качество веры. Здесь тоже многообразие. Далее, неверующие люди, сожалеющие о своем неверии. Или верующие, не знающие, что они верят. Кто изучал их? Наконец, атеисты, к каковым до недавнего времени относили у нас большинство. Имея в виду это многообразие, почему бы не поразмышлять о месте христианства в культуре вообще.
Мне нет необходимости определять понятие «атеист», достаточно припомнить о собственном опыте общения с теми, кто демонстративно объявляет себя таковым. Это — самоуверенные, категорически мыслящие люди, обнаруживающие прежде всего невосприимчивость религиозных текстов. Наличие таковых среди преподавателей философии, на мой взгляд, просто абсурдно. Впрочем, чему удивляться? О них изящно выразился еще Ф.Бэкон: «Поверхностная философия склоняет ум человека к безбожию, глубины же философии обращают умы людей к религии». Встречая такого человека, сколь бы образован он ни был, общаясь с ним, я каждый раз не могу преодолеть чувство, что передо мной просто не вполне культурный человек. Можно указать и на факты публичного порядка, когда исчезновение из общественного сознания религиозного дискурса приводит к заметному снижению качества мысли. Это — французский материализм после Декарта или советская философия после плеяды мыслителей «серебряного века».
В разговорах о религии сегодня нет-нет да прозвучит голос атеиста, раздраженного усиленным вниманием общественности к этой теме и демонстративным общением властных лиц с представителями, как говорят, «власти духовной». Об этом общении умолчу — предмет особый, требующий отдельного обсуждения. А чувствуется в этих голосах отсутствие такта и непонимание. Один умный публицист сообщает, что в беседе с известным кинорежиссером он назвал себя атеистом. И понял из дальнейшего, что «мастер считает атеиста человеком в чем- то недоделанным». Очень точное слово — на то и публицист. Ведь ясно, что все истинные добродетели неверующего присутствуют у верующего. Но у последнего есть еще что-то сверх. Этого «СВЕРХ» никак не может понять атеист. Он считает, по непониманию, что жизнь верующего заполнена «жалобами и поклонами». Он настаивает на том, что «силы и средства лучше отдавать строительству домов для людей, чем часовен для молитв», что только знание и труд могут вывести к свету. Дом, между прочим, есть и у бобра, а вот часовни нет. Этим и отличается человек от всех иных тварей, что живет не только хлебом. И верующий вовсе не против знания и труда. Только для него важно, знание ЧЕГО, и во имя ЧЕГО труд.
Сегодня, в начале столетия нынешнего, появилась возможность продолжить ту работу, которая началась в конце столетия прошлого. Речь не идет о столь модном ныне возрождении. Ничего возродить нельзя. Можно продолжить осмысление жизни в манере, некогда враз исчезнувшей. Но прежде предстоит многое переписать, изменить привычные схемы. И прежде всего, на мой взгляд, следует переосмыслить соотношение понятий религия, философия и наука.
В таком порядке эти понятия расположены в известной схеме О.Конта, и этот порядок, как считается, схватывает этапы интеллектуальной эволюции. Имеется в виду не эволюция сознания вообще, а только изменение стратегии подсознания в направлении ее совершенства. Так взрослеет человечество. Начиная с наивного, как бы детского объяснения природы, оно постепенно восходит к объяснению научному, т.е. строгому, точному и практически ориентированному, одним словом, позитивному.
В этом, несомненно, что-то есть, однако благодаря мощному развитию науки и, как следствие, тому, что научное мировоззрение стало доминирующим, схема О.Конта оказалась, что бы ни говорили о ней критики позитивизма, характеристикой сознания самих этих критиков, выражением известной доктрины, изумляющей своим активизмом и доступностью для самых примитивных умов. Эти три фундаментальные понятия стали обозначать элементы культуры, расположенные в таком именно порядке и по времени их появления, и по их социальной значимости. Это понимание подкреплялось просвещенческим историзмом, согласно которому прошлое представлено в настоящем в снятом виде, что, по сути, означает — прошлое, взятое во всей своей полноте, ХУЖЕ настоящего.
Оставив эти три категории в том же порядке, можно интерпретировать всю схему О.Конта иначе. Религия есть начало, или фундамент культуры. В мистическом опыте человек обретает высшие ценности. Здесь закладывается пред-разумные установки, определяющие поведение человека. Их можно называть верой, предельным интересом или как-то еще. От этого не меняется их суть и назначение — облагородить сознание и человека вообще. С этого начинается культура. Любопытно, что сознание, сопряженное с science, переводит латинское слово «cultura» как «возделывание» в смысле технической обработки. Религиозное сознания выбирает из ряда словарных значений другое — «поклонение», «почитание» и т.п. Подлинная культура религиозна. Некультурное существо грубо потребляет объект, культурное существо служит ему, облагораживает его и, наконец, превращает его в символ. Оно способно одухотворять.
Философия появляется как стремление понять. Ценности как бы взывают к их рациональному обоснованию. Разум вступает в свои законные права. Разум в определенном смысле — надстройка. Когда есть цель, ищутся средства. Этот поиск — прерогатива разума. Между тем чем больше у человека смелости обсуждать некоторую ценность, тем менее она для него — ценность. Подлинные ценности не поминаются всуе. Это житейское наблюдение указывает на пред-разумную природу ценностей.
Теперь о науке. Назначение науки — уточнить инструментально то, что понято. Все разумное в науке от философии. Наука — это третий этаж единого строения, или мастерская, где познается предметность с ориентацией на проектирование и изготовление полезных для человека вещей. Если метафорой для выражения сути религии взять сердце, а философии — голову, то для науки, естественно, взять глаза и руки. Но в человеке эти, с позволения сказать, части не действуют автономно. Так и в культуре: религия, философия и наука не сменяют друг друга в историческом развитии, не являются этапами движения от наивного верования к строгому знанию. Они присутствуют в культуре как ее элементы и выполняют функции, необходимые для жизни целого.
ДВЕ ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ
Я не буду даже пытаться точно определить, что есть религия, но тема обязывает высказать об этом посильные соображения, необходимые для выражения основной идеи статьи. По-видимому, суть религиозной жизни — пребывание человека в состоянии, которое можно назвать общением с Богом. Это — интимное состояние, достигаемое прежде всего в молитве. Путь к нему через СЛОВО. Но само это состояние словом невыразимо. Интимность истинно религиозной жизни подчеркнута в наставлении о молитве: лицемеры молятся пред людьми на углах улиц. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись…» (Мат. 6, 6). Поразительно, как доступен Бог в сравнении с мало-мальски важным чиновником. Трудность не в том, чтобы пробиться к Нему, а в том, чтобы впустить Его.
А как же молитва в храме? Зачем храм, если молиться надо в уединении? Этот, с точки зрения верующего, глупый вопрос позволителен, я думаю, размышляющему о религии. Ответ на него находится в контексте личное-публичное. Интимность общения с Абсолютом в соборе не исчезает, а обостряется. Цель любого светского собрания иного рода — рациональное или эмоциональное единство собравшихся. В храме это, по-видимому, не является целью. Храм не один на всех, а один на каждого. Там, хотя и в толпе, каждый один на один с Ним. В храме свободнее осуществляется встреча с неотмирным, обретается состояние, почти недостижимое в обыденных условиях.
Но в миру рядом с человеком Другой, с ним надо жить, как говорят, решать вопросы. С ним надо что-то обсуждать. Его приходится убеждать, соглашаться с ним или возражать. Даже идти в суд — заботы человеческие многообразны и суетны. И в этом земном общении слово — тоже главное средство. Сложилось так, что в делах серьезных самое веское слово — слово науки. От ее имени пытаются выступать все и в любой области. Указание на фундаментальные факты, добытые наукой, и умелое применение логики — вот на чем, как считается, строится эффективная аргументация.
В этом общении мы не прибегаем к аргументам, затрагивающим сферу религиозного. Такого рода аргументы считаются не столько сомнительными, сколько неуместными, несерьезными. Но религиозное вечно пребывает в сознании, до поры в нем дремлет. Оно прорывается в словах, над которыми человек и не задумывается, привычно употребляя их, например, в поговорках. Если задерживаться на этих словах, расширять их круг, постепенно, можно предположить, они начнут осознаваться как ткань особого мышления. Теологический аргумент обретет вес.
Здесь следует заметить, что сегодня мы расстаемся с иллюзией объективности . В смысле существования единственной системы аргументации. А причина этого в том, что утрачивается интерес к самой проблеме существования. Если существование ставится во главу угла, то аргументация, принимаемая в расчет, принимается потому, что ею фиксируется некоторый аспект бытия. Нас вынуждают принять предлагаемое утверждение потому, что оно есть знание. А знанием оно является потому, что отражает то, что ЕСТЬ. Утратив интерес к существованию, но сохранив потребность убеждать, мы опираемся теперь на базис несомненности, воплощением которого всегда является авторитетный текст. Любопытно, что понимание такого текста зависит от отношения к нему. Не будем говорить о благоговении, есть более скромные характеристики — уважение, доверие, признание огромной смысловой глубины. При таком отношении, если иметь в виду Библию, наступает порой такое прозрение, что невольно появляется мысль: автором этого текста не может быть человек! И смешон становится тот, кто рассуждает о пастухах, сочинявших в далекой древности наивные мифы. Такое отношение напрочь устраняет всякую возможность понимания. Напротив, при постоянном и внимательном чтении Библии вырабатывается установка на доверие к аргументам, которые могут быть из нее извлечены. Чем дальше продвигается этот процесс, тем менее важным становится вопрос о бытии, о существовании. Этот вопрос важен для примитивного сознания. Ему надобно ощутить, т.е. пощупать перстом.
А как же быть с истиной, остается ли ей еще место? С этим великим некогда словом в наше время происходят странные вещи. О нем забывают, не отказываясь, впрочем, от того, что оно выражает. Это хотелось бы подчеркнуть. Истина переопределяется. Это происходит, по-видимому, потому что человека больше интересует не то, что есть вне людей, а то, что будет делать другой человек. В конце концов мы называем истиной то, что ПРИНИМАЕМ и чем руководствуемся. Это слово — «принять» — может со временем заменить привычные слова «познать», «открыть» и т.п. Оно более адекватно новой духовной ситуации. Ведь то, что мы принимаем, имеет сугубо социальное происхождение: мы получаем нечто из рук в руки. Может быть, так было всегда, но изображалось иначе. Как будто мы извлекаем это из самой природы. Итак, для одних, чтобы принять, надо пощупать перстом или подчиниться логической силе. Для других…
Вы, дорогой читатель, ожидаете слово «поверить». Его не будет. Разумом и верой не исчерпывается феномен принятия. Я принимаю нечто и потому, что оно уместно в том мире, в которым живу. В мире авторитетного текста. Может быть, кого-то смутит слово «авторитетный» — мы не жалуем все, что напоминает нам о власти. Речь идет о ТЕКСТЕ, который достался мне от других и пережил века в неизменном виде. Я доверяю ему. Все научные тексты в сравнении с ним — газетный листок рядом с фолиантом. Этот текст не подлежит суждению. Мое несогласие с каким-то отдельным смыслом в нем указывает мне только на одно — на мое непонимание. Моя жизнь в нем — это непрерывное его достраивание, хотя внешне он нисколько не меняется. Это занятие интересно и полезно, ибо я постоянно узнаю что-то новое и о мире ВНЕ Текста. Почему это происходит? Потому, я подозреваю, что этот реальный мир — не что иное, как комментарий к Тексту. Да, не более, чем комментарий.
ХРИСТИАНСКИЙ ПРОЕКТ
Текстом явлена миру Духовная Конституция. А говоря иначе, с появлением христианства началось исполнение грандиозного проекта, по сию пору не завершенного. Европейская история представляется с того времени историей материальной интерпретации или практического комментирования Текста, воплощения в жизнь содержащегося в нем учения. Глубоко символичен в этом смысле момент, с которого ведется современное европейское летоисчисление. На языке самого христианства мысль о дальнейшей истории как исполнении Проекта может быть выражена примерно так. С приходом Христа закончилась длительная история поисков достойного человека образа жизни. Закончилось в принципе теоретизирование и началась практика, т.е. подражание Христу. Светские формы культуры начинают развиваться путем рецепции христианского учения. Это происходит и сейчас. Ведь не проходит бесследно работа по распространению Нового Завета: ежегодно люди получают десятки миллионов экземпляров Книги.
В Проекте зафиксирована и цель его, и процесс осуществления. Цель — Царство Божие, процесс характеризуется эволюционизмом и незавершенностью. В простой интерпретации царство небесное есть правление Бога в душе. Это вовсе не состояние, которое наступит когда-то в будущем. И этим христианская эсхатология отличается от утопии. Мысль об эволюционизме и незавершенности требует более подробного рассмотрения. Речь, естественно, о постепенном преобразовании жизни в духе христианского учения. Этот смысл в Тексте несут метафоры закваски и горчичного зерна. Незавершенность же Проекта не означает, что существуют какие-то трудности внешнего характера. Она коренится в природе человека — в воспроизводящемся человечестве. Каждый человек, входя, врастая в культуру, начинает с нуля. К этому мысль В.В.Розанова — «христианство инкрустировано в мир». Закваска действует и будет действовать, горчичное зерно в конце концов дает такое же зерно. Но есть тенденция, нарастание объема. Можно с уверенностью утверждать, что европейская культура сегодня полнее христианством, нежели, скажем, в средневековье. Это парадоксальное утверждение означает следующее: оставаясь закваской и инкрустацией, христианство преобразует жизнь, но это преобразование на поверхности видится лишь в светских формах. Христианское происхождение современных принципов жизни, идей и крупных социальных институтов обнаруживается только при специальном исследовании.
Этот процесс перехода (или перевода) ценностей христианства в светские формы можно иллюстрировать на примере принципа равенства. Стоит ли говорить о значении этого принципа? Сегодня любая социальная проблема регионального или глобального уровня связана явно или скрыто с проблемой равенства. Степень реализации идеи равенства считается критерием общественного прогресса. По-видимому, первым политическим документом, в котором эта идея была провозглашена, является американская Декларация независимости (1776). Второй абзац текста начинается словами: «Мы полагаем очевидными истинами то, что все люди созданы равными, что они получили от Создателя некоторые неотчуждаемые права, и в числе этих прав — жизнь, свободу и стремление к счастью». Во Всеобщей декларации прав человека (1948) эта мысль выражена уже в светской форме: «Все люди рождаются свободными и равными в правах и достоинстве». А истоки самой идеи известны — «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). И раб, и свободный — одно. В условиях обыкновенности рабства это было сильное заявление. Христианство не могло отменить рабство, но вся история отмирания этого института прошла под знаком церковного принципа — крещеный человек не может быть продан. А.Герцен, узнав об освобождении крестьян, прислал Александру II восторженное письмо. Оно начиналось словами: «Ты победил, галилеянин!».
Вернемся теперь к мысли о нарастании, так сказать, объема христианства в европейской культуре при сохранении христианством своего статуса, выраженного образом инкрустации. Речь идет о скрытой христианизации мира как неприметном эволюционном процессе трансформации христианского учения в светские формы. Многие люди, не посещая храмов и не молясь, в делах своих все более становятся христианами (речь не об индивидах, а о поколениях). При таком понимании развития культуры взаимоотношение между церковью и миром не представляется проблемным. Церкви надлежит делать свое дело. Ей нет необходимости прямо выходить в мир, высказывать свое отношение к всевозможным мирским проблемам. Да, мир во зле лежит. Да, «не любите мира, ни того, что в мире» (1 Иоан. 2, 15). Об этом надлежит говорить прямо и добиваться понимания, что это значит. В результате мир будет постепенно становиться иным — не злее, а добрее. Это — заслуга церкви. Сосредоточившись на духовном, она одухотворяет жизнь в целом.
Между тем светские формы жизни — те именно, которые порождает христианство, воспринимаются порой как трагическое отпадение, отклонение от христианского учения. Говорят, например, о либерализме как вызове христианству, о либеральной идее свободы как антихристианской. Замечу, что неприятие либерализма объединило очень разных идеологов. Но единых в одном — все они ратуют за организованную привязку индивида к той или иной общности. В этом смысле соответствующие идеологии, конечно, несовместимы с либерализмом. Дело в том, что привязку организуют люди, специально для этого предназначенные. И здесь заложена возможность неравенства. Не свобода — главное в либерализме, а равенство — равная свобода. И еще ответственность, как следствие. И еще согласие там непременно присутствует. Либерал не учит, не руководит, а учится и руководствуется. Потому-то он больше надеется на руку невидимую, нежели видимую.
О НЫНЕШНЕЙ ДУХОВНОЙ СИТУАЦИИ
Меня удивляют разговоры о духовном вакууме, который, якобы, возник после исчезновения известной идеологии. Этим объясняют возросший интерес к религии и всякого рода экстравагантным духовным практикам. На самом деле вакуум был раньше, когда существовал организованный контроль над сознанием, а та идеология у большинства людей духовный мир не задевала. Интерес к религии никогда не угасал, несмотря на работу грандиозной атеистической машины. Сегодня на этот интерес отвечает рынок, людям предлагается огромная литература и услуги доморощенных и заезжих «специалистов». В обществе воцарился не вакуум, а идейный хаос.
Вряд ли нужны здесь меры духовной санитарии. Такого рода забота о человеке унизительна и в цивилизованном обществе терпима лишь по отношению к малым детям. Для ребенка запрет еще может рассматриваться как упражнение для его свободы. Совершеннолетнему человеку можно только помочь понять, что во всякой духовной культуре есть некая позитивная ортодоксия, т.е. нечто серьезное и достаточно стройное, отвечающее традиции. И есть эфемерные, как правило, залетные веяния, которые постоянно меняются и никогда не исчезают. Это даже не ереси, ибо ересь — нечто серьезное. Веяния, о которых речь, это — духовный блуд. Так вот, христианство для нашей культуры — это позитивная ортодоксия. Нравственный, гуманистический потенциал христианства остается слабо задействованным. Я имею в виду широкий общественный контекст, а не собственно церковную жизнь. Нужны люди, понимающие в этом. Присутствие таких людей в средствах массовой информации крайне желательно. Не о проповедниках речь, они делают свое дело. Речь о тех, кто может использовать и иные формы коммуникации, более адекватные публике с современным образовательным уровнем. Возможны и структуры типа существовавших раньше религиозно-философских обществ. И, конечно, нужна литература, сосредоточенная на анализе различных сторон общественной жизни в свете христианского учения.
P.S. Уже написав все это, оказался я в храме. Так, по случаю, проходя мимо и любопытствуя. Постоял, послушал песнопения с хоров, вгляделся в лица, отмеченные особой сосредоточенностью. Не те лица, что в транспорте или очереди. И подумал: не совершаю ли я грех многоглаголания? Чего стоят наши интеллигентские разговоры о религии в сравнении с тем, что происходит в храме, в душах молящихся там людей?
Выпуск газеты №:
№107, (2001)Section
Общество





