Критерии «недореформ»
Конкурировать с чиновниками могут лишь богатые люди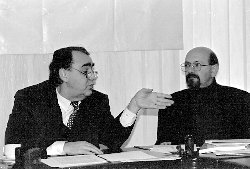
Общество левеет — все чаще в последнее время предупреждают социологи. Параллельно, процессы приведения правого и центристского сегмента политического класса в конкурентоспособное состояние происходят весьма медленно (если происходят вообще). Кроме того, общественному мнению вместо схемы на манер «реформаторы против красных» предлагается новая искусственная дилемма «реформаторы против олигархов». Бесспорно, недореформированное общество является неплохим сырьем для политических технологий.
О политических ориентациях населения, глубине проникновения реформ, критериях и патологиях социальных трансформаций в беседе с гостями «Дня»: Валерием ХМЕЛЬКО, президентом Киевского международного института социологии (КМИС), деканом факультета социальных наук и технологий НаУКМА и Владимиром ПАНИОТТО, директором КМИС и профессором кафедры социологии НаУКМА.
ЛЕВЫЙ РЕГРЕСС
— Каковы основные черты политического массового пространства, этой «картины мира» в массовом сознании накануне избирательной кампании?
— Валерий Хмелько: Если говорить о политических ориентациях наших граждан, имеющих право голоса, то пространство это очень многомерно. И хотя выборы будут еще нескоро, на сегодня мы имеем более ясную картину, чем это было, скажем, за полтора года до предшествующих парламентских выборов. Я предложил бы посмотреть на это, прежде всего, с точки зрения социально-экономических ориентаций, отношения к рынку. Это отношение было одним из тех измерений, которые дифференцировали избирателей на минувших выборах. В 1998 году электорат Коммунистической партии был самым левым как по своим национально-политическим, так и по социально- экономическим ориентациям, а самые правые электораты по этим измерениям имели — Рух, Национальный фронт и партия «Реформы и Порядок». Расположение электоратов партий на плоскости этих двух измерений политического пространства дают возможность говорить о том, что политические ориентации нашего электората на минувших парламентских выборах в целом не были хаотичными.
Мы уже начали опрос для выяснения современной ситуации. Сегодня картина проясняется, пока что, по партийно-политическим ориентациям — готовности голосовать уже сейчас за ту или иную партию. По сравнению с прошлым самое печальное, на мой взгляд, то, что выросла часть готовых голосовать за левых — Коммунистическую, Социалистическую и Прогрессивную социалистическую партии. За полтора года до минувших выборов за коммунистов среди населения готовы были голосовать 14%, а сейчас уже 20%. Социалисты вместе с Крестьянской партией имели поддержку 3,3%, а сейчас — 3,8%. ПСПУ имела 0,4%, а сейчас — 2,6% (правда, сейчас эта партия представлена в Верховной Раде, то есть у нее больше доступа к информационному пространству). Так вот, если за партии левого направления тогда собиралось голосовать меньше пятой части электората, то сейчас уже около четверти. Некоторые политологи надеются, что все те, кто решил голосовать за левых, уже определились с выбором, а те, кто может проголосовать за другие партии — еще нет. Эти политологи считают, что большинство из тех 23%, что не определились, могут отдать свои голоса за партии нелевого направления. Тем не менее, на мой взгляд, участие в голосовании этих избирателей вообще маловероятно. Я не думаю, что в следующих выборах примут участие большее 60% избирателей, а на сегодня уже 56% имеют определенные пристрастия. Эта картина печальна. Но если бы выборы были сегодня по сугубо пропорциональной системе с 4-х процентным барьером, то соотношение левых и нелевых депутатов составляло бы приблизительно два к одному: 46% процентов голосов получили бы три левых партии, 22,5% — три нелевых (НРУ, СДПУ(о) и НДП), а другие голоса были бы потеряны. Безусловно, можно надеяться на то, что партия «Реформы и Порядок» еще раскрутится (она сейчас уже имеет 3,5%) и войдет в парламент. Тогда у нелевых будет не 22,5%, а приблизительно 27—28%, и соотношение будет не два к одному, а немножко меньше. Но для того, чтобы этот баланс изменился существенным образом, нелевым партиям надо хорошо поработать. Эти партии очень распыленные, хотя в целом нелевые имеют несколько больше голосов, чем левые.
— Владимир Паниотто : Я хотел бы добавить относительно объединений. У политиков имеется иллюзия, что все что они делают, очень быстро и сильно влияет на население. Как свидетельствуют данные предшествующих исследований, проходит очень большой промежуток времени от того момента, как что-то делается, до того, как это становится общественно значимым фактом. Поэтому, если какие-то партии намерены объединяться, то это, по моему мнению, надо делать как можно раньше, чтобы успеть «раскрутить» свое объединение. Иначе оно не будет иметь большого эффекта.
— В.Х. : При объединении надо еще учитывать близость ориентации электоратов. Например, ориентации электоратов СПУ и ПСПУ перед минувшими выборами были очень близкими, а сейчас они еще более близки.
— И это несмотря на конфронтацию лидеров?
— В.Х. : Да, я имею в виду ориентации электоратов на рынок, на восстановление Союза или сближение с Россией, а также отношение к свободе СМИ. Кстати, недавно мы задавали вопрос: считаете ли Вы, что правительство может контролировать печать, радио и телевидение? И оказалось, что электораты даже таких партий как ПРП и СДПУ(о) по этому параметру близки к электорату ПСПУ.
— Здесь, кстати, есть два момента, требующие комментариев. Первое — очень часто у нас социалисты и националисты придерживаются одинаковых взглядов. По всему полю тесты на либеральные свободы, рыночную экономику показывают абсолютную несформированность критериев.
— В.Х. : Если говорить об уровне поддержки экономической свободы, то сейчас заметно выделяются три группы электоратов. Наиболее за рыночные формы экономики — электораты НРУ, ПРП, СДПУ(о), НДП, УНР и «Батьківщини», средний уровень занимают электораты СПУ и ПСПУ, и самые реакционные взгляды на экономическое регулирование имеет электорат коммунистов. Так что по отношению к рыночной экономике электораты партий все-таки заметно дифференцируются. Конечно, есть и другие измерения, усложняющие картину, тем не менее сейчас еще рано строить какие-то определенные заключения. Нелевые политики, на мой взгляд, должны сделать какие-то серьезные шаги, учитывая ориентации соответствующих электоратов. Например, если «Трудовая Украина» была создана в свое время для того, чтобы оторвать часть электората от левых, то сейчас она, выдвинув такого явно нелевого лидера как Тигипко, на мой взгляд, рискует утратить бывший, достаточно левый, электорат и не получить другой. Из-за несовпадения ассоциаций, которые вызывают название и лидер, партия может оказаться в, так сказать, электоральной яме.
— Представители этой партии утверждают, что они имеют определенный ресурс для того, чтобы убедить избирателей в том, что банкир — тоже работник или «трудящийся». Хватит полтора года для этого?
— В.Х. : Это очень трудно. Думаю, что бывший — левый — электорат этого не воспримет, а нелевому нужно не это доказывать.
— Настолько, что у них есть возможность оказаться перед необходимостью менять направление?
— В.Х. : Есть, возможно, другой выход — создание объединения «Трудовой Украины» с другой организацией, и принятие объединением такого названия, которое не будет отталкивать тех, кто ратует за развитие бизнеса и рыночных реформ. Но в целом за последние шесть лет даже экономические взгляды значительно полевели. Например, если в 1994 году 78% были согласны с тем, что граждане Украины должны иметь право частной собственности на землю, то есть владеть землей, покупать и продавать ее, то сейчас таких уже 54%.
— В интервью в нашей газете Р. Безсмертный высказал мысль, что избирательная система не влияет на структурирование общества. Каково ваше мнение по этому поводу? Влияет или нет, а если да, то — какие, по вашему мнению, сценарии и варианты лучше?
— В.Х. : В наших условиях тип избирательной системы влияет на структурирование в первую очередь того, что называют политическим классом, а через это уже на политические ориентиры для избирателей и ведет к определенному структурированию общества. Хотя политически наше общество как раз не очень структурируется. Я бы говорил, все-таки, о структурировании политической системы. Безусловно для этого, возможно, лучше бы сработала пропорциональная система. Но подталкивать этот процесс в тех условиях, в которых сейчас находится наша экономика — опасно. Можно «проструктурировать» так, что мы останемся с левым большинством в парламенте. Я бы рекомендовал нашим политикам сохранить еще некоторое время смешанную систему.
— Евгений Иванович Головаха по этому поводу шутил, что можно было бы сделать чисто мажоритарную систему и тогда коммунистов в парламенте вообще не будет.
— В.Х. : Да, смысл в этом, конечно, есть, тем не менее я думаю, что Евгений Иванович со мной согласится, что такую цену за создание нелевой Верховной Рады платить не надо. Все оценки показывают, что приблизительно 6—8 партий прошли бы по той системе, которая есть сейчас. А это уже такое количество, которое дает возможность человеку ориентироваться, ведь среди ста партий сориентироваться невозможно. И это уже лучше, чем 28, а возможно 6 будет еще лучше. Главное, чтобы соотношение их сил было достаточное, чтобы продвигаться в направлении экономической и политической свободы, а не наоборот.
ПОЛУКАПИТАЛИЗМ
— Насколько глубоко в общество проникли реформы?
— В.Х. : Все это зависит от того, какие критерии брать для оценки ответа на этот вопрос. Если говорить о крупномасштабных структурах общества, то нужно принять во внимание изменения, по меньшей мере, в четырех аспектах — макросоциальной дифференциации доходов, макроотраслевой структуры общественного разделения труда, социально-классовой структуры и институциональной. Макросоциальная дифференциация доходов обычно характеризуется соотношением доходов богатейшей пятой части семей и беднейшей пятой части. Если посмотреть, как изменялись эти пропорции на протяжении последних девяти лет, то по данным опросов, которые проводил Киевский международный институт социологии, можно показать, что в 1991 году это соотношение было очень близким к тому, которое было в США в 1985 году, — 8,6 в США и 8 у нас. Самые богатые 20% семей в Украине получали тогда долю доходов только в 8 раз большую, чем беднейшие 20%. Потом ситуация начала ухудшаться: в 1996 году это соотношение составляло у нас уже почти 14, а в 1998 году — почти 29, и превзошло ту разность в доходах, которая была в Соединенных Штатах во время «Великой депрессии» (18 раз). И только в последние два года ситуация изменялась в противоположном направлении: «верхние» 20% в этом году, по данным за октябрь, получили в 10 раз больше, чем «нижние» 20%, при этом самые богатые 5% получали 19% всех доходов в стране.
— В.П. : Одним из следствий реформ является развитие бизнеса. Недавно вместе с двумя американскими фирмами мы проводили исследования о состоянии малого и среднего предпринимательства. И одной из неожиданностей было то, что количество занятых на больших предприятиях было даже немного меньшим, чем на малых и средних. До этого считалось наоборот.
— Сейчас много говорят о некотором регрессе, в особенности в плане экономических ориентаций населения. Просматривается ли массовая готовность граждан к экономически активному поведению?
— В.П. : Как я уже говорил, по тем результатам, которые мы зафиксировали, бизнес-структура оказалась совсем не такой, какой мы ее себе представляли. Она очень далеко ушла от того, что было раньше и вообще она не очень сильно отличается от некоторых развитых обществ. Если брать долю людей, занятых в разных видах бизнеса, то обнаруживается, что самозанятых уже около 12%, а если взять распределение предприятий Украины по размерам, то самозанятые составляют 86%, то есть подавляющее большинство бизнесов — это самозанятые. Другая дело, что мера зарегистрированности среди самозанятых достигает только 25%. А из занятых в малых предприятий — 40%. А вот средние и большие — зарегистрированы практически полностью.
Но проблема не только в количестве малых и средних бизнесов, но в том, как они функционируют, в какой среде. Из-за налогового давления многие из них уклоняются от уплаты налогов. Среди тех предприятий, которые уклоняются от уплаты налогов, главный «метод» — денежная наличность, число таких предприятий составляет — 62%, второй — приписывание прибылей тем статьям, которые облагаются меньшим налогом, такой формой пользуются 22% предприятий. Оформление затрат на тех, кто имеет льготы — 13%, ну и дальше идут другие формы, в частности, 6% регистрация фирмы в офшорной зоне и незарегистрированные счета.
— А есть ли какие-нибудь конкретные данные, характеризующие отношения бизнеса и государства?
— В.П. : Есть данные проверок, проведенных за последние шесть месяцев. Для всех видов бизнеса их число — 10,6, то есть почти по две проверки в месяц. Тем не менее количество проверок на малых предприятиях составляет семь проверок за полугодие, а на больших — около 20.
Когда же речь идет об основных проблемах, с которыми встречаются предприятия, то 46% отмечают, что это налоговая система, а затем уже 12% — недостаток оборотных средств, низкий спрос, инфляция. Интересно то, что административный контроль здесь составил лишь 2%.
— Хотелось бы услышать от вас более подробные комментарии к тем цифрам, которые вы получили, в частности о динамике незарегистрированной занятости.
— В.Х. : Дело в том, что о динамике незарегистрированной занятости мы говорить не можем — еще не было второго исследования. Динамика прослеживается пока что лишь по доходам. Но из уже полученных данных видно, что больше 40% официально работающих занимаются также незарегистрированной деятельностью. И это дает людям возможность получать некоторые дополнительные доходы и как-то выживать.
— Это как раз рекомендации для законодателей, ведь, чтобы человеку начать свое дело без каких-то необычайных стартовых возможностей, надо пройти такие «рогатки», что у людей пропадает желание что-либо делать. И именно по этому поводу хотелось бы услышать ваш комментарий.
— В.Х. : В целом ситуация выглядит так, что чиновничество, — воспользовавшись то ли недостаточными правовыми знаниями, то ли зависимостью условий жизни значительной части законодателей первых созывов от органов исполнительной власти, — сумело провести такое законодательство, по которому любой неубыточный бизнес (за исключением кое-какого экспортного и осуществляющегося через связи с властью) невозможен или без нарушения законов, или без получения от исполнительной власти каких-то льгот. Наш опрос показал, какая значительная часть предпринимателей вынуждена давать взятки. Затем, в отличие от капиталистического общества европейского типа, у нас предприниматели находятся в такой зависимости от чиновничества, которая не позволяет предпринимателям быть высшим социальным классом. У нас высшее классовое положение имеют не предприниматели, а чиновничество.
Кроме того, мы имеем такой уникальный результат наших реформ, который я называю «полупроводящими» отношениями собственности. Дело в том, что с ликвидацией компартийных организаций и потерей остатков влиятельности старыми, «советскими» профсоюзами та власть, которую при условиях господства отношений частной собственности имеют собственники средств производства, в новых условиях перешла к директорам предприятий, председателям колхозов, чиновникам хозяйственных министерств и ведомств. Лишенные контроля параллельно функционирующих компартийных и профсоюзных органов с началом приватизационных процессов они оказались в исключительном положении, когда появилась возможность превращать прибыли от распорядительной деятельности государственным капиталом (позже — и формально акционерным) в частные средства. А убытки от этой деятельности покрывать за счет государственного бюджета, то есть нас всех. В отличие от полного собственника распорядитель не своих ресурсов действует как, так сказать, «полусобственник», как своего рода «полупроводник» в рыночном отношении: в одну сторону — на его счета с предприятия — средства идут, а в другую — с его счетов на предприятие — нет.
Такая институциональная структура не дает развиваться ни экономическим, ни политическим свободам, потому что из-за таких отношений в зависимости от чиновничества оказалось и подавляющее большинство СМИ. А что может быть без свободной прессы — не мне вам говорить... И потому большинство социальных институтов у нас фактически в очень деформированном виде.
— Может с этим и связано полевение электората?
— В.Х. : Я думаю, что полевение связано с тем, что лишь часть населения имеет возможность получать незарегистрированные доходы. И по Украине эта тенденция неравномерна: на Востоке меньше всего заняты незарегистрированной деятельностью, а больше всего — на Юге и Западе. Там, кстати, и ориентации населения более рыночные.
— Именно там экономика отворачивается от социализма в том виде, в котором он существовал и там люди живут со своего уличного бизнеса?
— В.Х. : С уличного бизнеса и подсобного хозяйства.
— В.П. : Следует отметить, что много исследователей предлагают не называть таких людей представителями малого бизнеса и не брать налогов, так как для них этот вид работы является не бизнесом, а средством выживания.
— В.Х. : Кстати, когда мы впервые провели исследования доходов, затрат и потребления по методике Мирового банка в 1995, а затем в 1996 году, мы столкнулись с тем, что почти 75% населения Украины летом занимается подсобным сельским хозяйством. В основном — как натуральным хозяйством. Лишь 13% из них продают какую-то часть своей продукции. Все другие — 87% — занимаются этим для того, чтобы выжить. При этом две трети городского населения вынуждены заниматься подсобным сельским хозяйством и это отрицательно сказалось на макроотраслевой структуре нашего общественного производства.
— В.П. : Это кстати был один из наиболее неожиданных результатов.
— В.Х. : В то время, когда развитые индустриальные общества продвигались от индустриально-информационной к информационно- индустриальной фазе развития, у нас происходил регресс. В 1990 году занятость в промышленности была в 1,5 раза выше, чем занятость в сельском хозяйстве, а в 1999 году в сельском хозяйстве было занято людей больше, чем в промышленности: 4,4 млн. в промышленности и 4,9 — в сельском хозяйстве, включая занятость в подсобном хозяйстве, что учитывается официальной статистикой. По данным опросов занятость в сельском хозяйстве еще больше. Если взять историю Украины, то такая структура занятости была в первые годы после войны.
«ГОСУДАРСТВО ЧТО-ТО ОРГАНИЗУЕТ, А МЫ В ЭТОМ ПОУЧАСТВУЕМ»
— Здесь есть еще такая определенная тенденция, что часть общества развивается в информационном направлении, а другая в феодальном.
— В.Х. : Я говорю лишь об общей тенденции. Безусловно, у нас есть и очень развитые части общества. И потому идеи движения на опережение очень интересны, так как просто восстанавливать индустрию в том виде, в котором она была до экономического краха, значит расходовать напрасно колоссальные ресурсы. Я имею в виду даже не только временные ресурсы, но и человеческие, финансовые, материальные. Безусловно надо искать нетрадиционный путь, исходя из той ситуации, в которую мы попали, когда есть весьма высокообразованное население и довольно отсталые технологически, по нынешним критериям, заводы и фабрики.
— В.П. : Я хотел бы добавить к этому, что сейчас обсуждаются разные пути социальной политики, помощи и т.д. Всемирный банк этим весьма озабочен, но подход, который для других стран может быть удовлетворительным, например развитие малого бизнеса, льготные кредиты и т.д., не всегда бывает эффективным для борьбы с бедностью в Украине. У нас другая ментальность, другие традиции, да и люди не готовы к получению такой помощи и самостоятельной работе. Поэтому представители Всемирного банка выдвинули, на мой взгляд, очень умный тезис, о том, что надо поддерживать те механизмы, которые существуют реально и это в условиях нашей культуры может быть оптимальным подходом. У нас два реальных механизма выживания. Первый — это подсобное натуральное хозяйство, а второй — незарегистрированная деятельность. Если брать первый в кратковременной перспективе, и займы, выделяемые Всемирным банком, направить на закупки сельскохозяйственной техники, семян, то это могло бы вытолкнуть страну из той бедности, в которой мы сейчас пребываем. Но с другой стороны, это будет приближать нас к аграрному обществу. Кроме того, это деградация рабочей силы, потеря квалификации и т.д.
— А само общество какой путь сейчас поддерживает?
— В.Х. : Я думаю, что наши люди все-таки более настроены на то, что государство что-то организует, а мы в этом поучаствуем. Значительная часть Украины, в особенности Левобережье, сориентирована именно на такую точку зрения.
— В.П. : Эта проблема связана с политикой, ведь когда население бедное и должно как-то перестраиваться, а любые перестройки на первом этапе ведут к снижению благосостояния населения, то политик, осуществляющий такие перестройки, очень быстро теряет популярность, поэтому он не хочет рисковать.
— Но так или иначе те политики, которые сейчас при власти и в оппозиции не очень проникаются вопросами своей популярности, а двигаться вперед все равно надо, то какие рекомендации можно было бы для них разработать? Можно предложить своеобразный пакет шагов, есть ли у вас такое видение?
— В.Х. : В той ситуации, в которой мы оказались, просто повторять еще раз тот путь, по которому мы шли раньше, было бы нецелесообразно. Повторять путь, по которому прошли недавно новые индустрии Юго-Восточной Азии, было бы менее нецелесообразно, но все-таки это также будет повторением того, что было целесообразно раньше, а дважды одинаково ничто не повторяется. Я надеюсь, что появятся такие политики, которые могли бы с использованием и социологических данных, и экономических расчетов разработать такую программу, которая могла бы сработать плодотворно с помощью государства — но в той функции, в которой оно не дает указания, а создает мотивацию. Хотя бы так, как Россия создала привлекательные условия для развития своей информационной продукции, сняв определенные налоги. И эта продукция стала настолько конкурентоспособной, что даже на Западе Украины нашим издателям конкурировать с ней очень тяжело. Это пример эффективного подхода к созданию нужной мотивации, повышенной вероятности того, что в этом направлении пойдут инициативные люди. Если создать реальные приоритеты, условия, дающие нужную мотивацию и поощряют предпринимательство в приоритетных направлениях, то я думаю, что способных людей у нас обнаружится достаточно, чтобы вывести страну на более высокий уровень развития, не повторяя того, что мы уже прошли.
— В.П. : Если это правда, то наша ситуация действительно— скверная. То, что за последние два года наиболее активные из беднейших могли бы поднять свои доходы, показывает, что до последней точки они дошли два года назад, и очень медленно начали подниматься. Но не потому, что государство создало хорошие условия, а потому что они адаптировались к существующей ситуации и даже при таких условиях начали что-то делать. То есть можно сказать, что это определенный процесс самозащиты.
— С государством конкурировать могут богатые люди. И мы видим, что эта эклектика, искусственное противопоставление — «красные» против «желто-голубых», сейчас выглядит как «реформаторы против олигархов». Хотя это явление намного более сложное. И здесь речь идет не о выборе принципов, взглядов, суть дела в том, чтобы выбить для себя место под солнцем, а не изменить базовые установки общественных отношений.
— В.Х. : Я думаю, что прежде всего очень важно формировать через СМИ толерантное отношение к предпринимательской деятельности. Понимание того, что даже то, что мы привыкли называть спекуляцией, для общества как большой системы является продуктивной деятельностью. Потому что люди, которые покупают что-то в одном месте, а продают в другом, создают экономические связи, движение товаров из одного места в другое. А это практически так же важно для общества как кровообращение в живом организме. Создание экономических связей является очень важной продуктивной деятельностью. Этот растущий снизу бизнес и больше всего страдает от власти. Я думаю, что именно такие слои общества скорее прийдут к мысли, что надо что-то менять не только индивидуально, но и совместно. Практически принудительное создание большинства в парламенте может быть примером того, что наши нелевые могут прийти к тому, чтобы создавать законы для вывода бизнеса из-под власти чиновничества. А одна фраза депутата Бродского звучит как результат социологического анализа с позиций конфликционизма: «Чиновничество — главный классовый враг предпринимательства». Это не значит, что его надо уничтожать, как это делали большевики. Но изменять законодательство — надо. И изменять целенаправленно, создавая приоритеты для развития предпринимательства и избавляя предпринимателей от той зависимости от чиновничества, в которой они находятся сейчас.
— Чиновник должен быть проводником, пусть и высокооплачиваемым, но не работодателем.
— В.Х. : Да, безусловно. Тем не менее, на сегодня, он фактически является государственным рэкетиром.
— А та административная реформа, о которой так много говорится?
— В.Х. : Я о ней почти ничего не знаю. У нас никаких данных о ней нет. Мне кажется, что это некий миф. Ничего реального не заметно. Например, если взять учреждения высшего образования, ситуация в которых мне больше известна, то на сегодня чиновники там вмешиваются даже в те процессы, в которые первые годы после обретения независимости они не вмешивались.
— Нет общественного сопротивления.
— В.Х. : Да. Большинство сил у людей идет на то, чтобы решить проблемы элементарного выживания. Из истории известно, что если у людей появляется немного сил и времени кроме этого, они начинают создавать объединения, чтобы что-то изменить. Пока же они с утра до вечера заняты выживанием, то ни партий, ни профсоюзов действенных не будет. А именно такие объединения и являются основами гражданского общества — объединения политические и профессиональные, включая предпринимательские. Эти категории объединений составляют скелет гражданского общества. А у нас он только формируется, его даже еще нет. И хотя уже много существует негосударственных организаций, тем не менее нет готовности действовать совместно и объединяться не для решения какой-то собственной проблемы под видом общей, а для того, чтобы решить какую-то общественную проблему. Если такое движение начнется, я думаю оптимизма у нас будет немного больше.
— Именно в этом плане — какую объединяющую идею, в качестве национальной, общество сейчас могло бы принять?
— В.Х. : Я могу сказать, что эта идея не может быть этнической, потому что такие идеи не объединяют, а разделяют наше общество. Она не может строиться также и по языковому принципу, потому что в таком случае наше общество также окажется разделенным. Она должна быть конструктивной в социально- экономическом и государственно- строительном плане. Идея должна быть направлена на построение политической нации и современных форм воспроизведения общества.
— В.П. : Типа большого скачка?
— В.Х. : Нет, прыгать не надо. Надо искать путь, а не возможность прыгать. Например, в статьях Марчука касательно движения на опережение, которые публиковались в вашей газете, — есть много конструктивных идей, которые могли бы помочь в формировании общей национальной идеи. Потом были материалы Сергея Удовика на эти же темы. Я думаю, что именно в этом направлении надо искать национальную идею, которая могла бы объединить всю Украину.
Выпуск газеты №:
№227, (2000)Section
Акция «Дня»





