Чингиз АЙТМАТОВ: Человек ответственен за все, что происходит на его веку
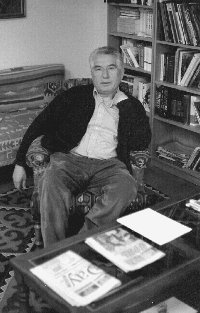
Начало на 1-й странице.
О ТВОРЧЕСТВЕ
— Как Вы относитесь к максиме Шарля Бодлера: «Художник перед моралью не в отчете. У него должен быть талант, а не добрые намерения»?
— Мне кажется, что это все-таки односторонний подход. Это одностороннее видение. Талант талантом, но в конце концов чему он служит? И избегать морали только потому, что это модно или привлекательно, или это накладывает какой-то особый оттенок на художника — это не то, чему я следую.
— Извините, еще две цитаты: «Если в произведении искусства нет чего-то ирреального, оно нереально» (Марк Шагал), «Великая литература всегда идет по краю иррационального» (Владимир Набоков)...
— Ну, здесь я опять же не могу согласиться, хотя это очень выдающие личности, классики — и тот, и другой. Но вот так вот категорически заявлять, что если нет ирреального, то это нереально, а что литература всегда должна идти где-то над обрывом реального... Во всяком случае полностью не могу с этим согласиться. Бывают такие ситуации, бывают такие произведения, замыслы, которые обходятся без ирреального. Просто изображается настоящая, обычная реальная жизнь, реальные люди, реальные отношения... И привносить сюда что-то непонятное, ирреальное, которое можно истолковать по-разному, мне кажется, это вовсе не обязательно.
— А как бы Вы оценили присутствие ирреального в ваших произведениях? Например, волчица Акбара, ход ее мыслей...
— Ирреальность может быть по-своему реальна. По-своему. Не обязательно ирреальное — это нечто абстрактное, сумбурное, непонятное, где-то подспудно воспринимаемое. Может быть, тут имеется в виду само наше подсознание. Подсознание иногда может воспринимать или давать такую реакцию, которую в конце концов мы можем рассматривать как ирреальную. Но я не об этом говорю. Я говорю о том, что рассчитывать заранее и стараться планировать это соотношение — это не совсем близко к истине. Все-таки истина главнее всего. Вы сейчас сказали несколько слов о волчице Акбаре... Но это уже воображение. Оно во многих случаях может быть почти реальностью. Смотря как это воспринимается читателем. Когда появилась «Плаха», то я был буквально завален письмами читателей. Сотни писем в день. Я просто не успевал их прочитывать. Таково было восприятие тогдашнего читателя. Это было как раз в самый апогей перестройки. И случилась такая сцена. Иду по улице Горького в Москве, теперь это Тверская. Прохожие в ту и другую сторону — течет река идущих по улице людей. И я в том числе. Я не ожидал, что я с кем-то встречусь, что эти люди, идущие, могут каким-то образом вдруг проявить свое отношение к моему творчеству. И вдруг впереди идущая женщина поздоровалась. «Здравствуйте», — говорю. Я думал, что мы знакомы. Смотрю, совсем незнакомая мне женщина, уже более среднего возраста, пожилая. Она тем временем подошла еще ближе и, глядя мне прямо в лицо, сказала: «Я — Акбара». Я опешил: что, она меня разыгрывает или еще что? Мне хотелось спросить: «А почему вы себя сравниваете с Акбарой?». Но она уже прошла мимо и где-то в толпе прохожих уходила. Вот этого я никогда не забуду. Никогда. Это была не шутка, не розыгрыш — совершенно незнакомая, посторонняя женщина, идущая по улице, заявила, что она Акбара. Так что, это ирреальность? Наоборот, это вот то, что может вымысел — он обрел в данном случае свою реальность. Женщина, видимо, настолько близко восприняла судьбу этой волчицы, что она себя сопоставила, сравнила с этой волчицей, с Акбарой. И, видимо, что-то происходило в ней, в ее жизни, в ее сознании, в ее переживаниях, когда она вот так вдруг сказала. И пошла дальше. Никогда этого не забуду...
Так что я, при всем моем уважении к Набокову и Шагалу, не могу с ними полностью согласиться. Ирреальность может присутствовать, быть включенной в контекст произведения, в контекст художественного мышления, но вот так вот определять категорически, что без ирреальности нет искусства — я с этим не согласен.
— Кстати, Чингиз Торекулович, а как работает ваше воображение? Вы как бы видите то, о чем пишeте, или происходящее в произведении, минуя зрительные образы, ложится на бумагу в языковой форме?
— Ну, не знаю... А что, разве есть образы, которые вне языкового выражения могут быть? Что б то ни было, даже любая фантастическая картина, видение — все равно находит свое выражение в слове. В этом величие слова. Слово оно само по себе вселенское значение имеет. Это элемент вселенности. Именно слово.
— Вы свои произведения вынашиваете по очереди, или ваша фантазия обрабатывает сразу несколько замыслов?
— Всякое бывает. Иногда по очереди, например, в данный момент. Так вот получилось — поднакопилось много того, что было задумано и не исполняется в силу самых различных причин. И прежде всего в силу нехватки времени: разъезды всякие, встречи, конференции, какие-то еще общественные дела. Они ведут к тому, что замыслы где-то вот живут, пока что в своей зоне временно, в ожидании того, когда же они найдут свою реализацию. Но я не знаю, почему вас это так интересует. Вряд ли это сказывается на самом творчестве. В моем понимании, вот тот момент, когда человек сидит и пишет и, так сказать, самовыражает себя на бумаге через слово, через тексты — вот тогда происходит настоящее творчество. До этого все — подготовительный этап. Свободный. Можно думать глубоко, последовательно, постоянно... А можно вообще не думать.
— Эрих Фромм в «Искусстве любить» заметил: чтобы стать мастером в любом искусстве, надо превратить свою личность в инструмент. Насколько осознанно у Вас отношение к собственной личности как к инструменту творчества?
— Мне трудно давать самооценку в этом ракурсе. Не было, чтобы я думал, что я инструмент и мое сознание — инструмент. У меня, наверное, больше все-таки такого стихийного подхода. Есть нечто, что меня волнует, тревожит, обнадеживает... И желание выразить это на бумаге, оно внутри, конечно, действует. Не более того. Например, то, что жизнь так круто сменилась у меня, когда война началась, Вторая мировая война. А я был уже подростком. И это мне преподнесло совсем другую сторону жизни. Поэтому, когда я это увидел, у меня все время было желание рассказать об этом кому-то, как-то. И в студенческие годы это заставило меня взяться за перо. Судьба дезертира, которую, будучи подростком, увидел, явилась первым сюжетом моего творчества. Это повесть «Лицом к лицу».
— Когда Вы обычно пишeте — утром, вечером, ручкой, на машинке, компьютере — короче говоря, когда и как у Вас это происходит?
— Ой, вы задали мне вопрос, для меня несколько больной, что ли. Или чувствительный. Я, к сожалению, к великому моему сожалению, остался архаичным человеком в этом смысле. Я пишу только ручкой, только шариковой ручкой, причем ни чем иным. Раньше перьевой, потом появилась шариковая, и вот я прирос к этой шариковой ручке. Я не печатаю на машинке — не потому, что я не хочу или не могу это освоить... Не знаю, все время кажется мне, что вот у меня нет времени, я чуть-чуть подожду, а потом попробую. А время все уходит... И я ни на машинке, ни на компьютере не работаю. Но для меня доставляет огромное удовольствие, когда работа разворачивается и можно написать в день 10—15 страниц.
— Рукописных?
— Рукописных. Я потом переписываю очень много. Сам процесс переписывания — тоже дающий очень много наслаждения. У меня технически построено таким образом. Я пишу от руки, жена перепечатывает на машинке. Теперь она и на компьютере может это делать. Потом я это снова правлю, очень серьезно, снова перепечатываю и, если нужно, еще раз. Вот так. Не складно, не производительно.
— Зато качественно.
— Ну, не знаю... Но такая получается ручная работа. В прямом смысле слова.
О ЧЕЛОВЕКЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ
— Понимаю, что любому из ответов на следующий мой вопрос трудно дать завершенное обоснование. И все же ваше мнение: что такое человек — божье творение, продукт природной эволюции или результат продолжающегося научного эксперимента, начатого на Земле неизвестно когда, кем и зачем?
— В философском понимании мне представляется, что человек отображает в себе все, что вы сейчас упомянули — все аспекты. Можно его рассматривать и так, и этак, и еще как-то. Он сложен. Сложное и многостороннее существо. Поэтому определить его, что он есть только продукт процесса эволюции или сотворен всевышними силами, и больше ничто — это будет очень недостаточно, ограниченно. Надо, наверное, в комплексе рассматривать все это. В одном случае можем предполагать, даже верить в то, что некий высший разум сотворил человека таким, каков он есть. В другом случае можем думать, что мы идем от первобытных существ — от обезьян, обезьяноподобных. В третьем еще что-нибудь — что инопланетяне нас забросили для размножения. Каждый раз, когда мы хотим более-менее точно уяснить для себя, надо смотреть, что являет собой в данный момент это существо — человек. Если в нем больше животного, животных инстинктов, животного поведения, тогда можем думать: да, все-таки мы от обезьян.
— В человеке конца XX века чего больше, на ваш взгляд?
— Всего в нем много. К сожалению. И проявляется по-разному. Мне кажется, человек никак не хочет отдать себе отчет, что ему следовало бы вести себя во многом по-иному. Во многом. И он мог бы себя вести во многом по-иному. Но вот какие-то инстинкты, другие силы, интересы, страсти, страсти — я подчеркиваю — они его уводят, делают его одноплановым. В человеке должно жить осознание, что он отвечает за все то, что происходит на его веку. Но для того, чтобы он воспринимал какие-то вселенские заботы — для этого должна быть соответствующая культура. Культура, которая ведет человека к такому состоянию. Это очень важно сейчас, когда все мы озабочены другим.
— Большую часть своей истории человечество прожило без техники. Как Вы думаете, какую роль в его судьбе сыграет научно-технический прогресс?
— Теперь без техники человечество не мыслит своего существования. Попробуйте из меня сделать пастуха. Я не смогу жить так, как в далекие времена мои предки. Они тогда жили и считали, что это нормальная жизнь. Для меня — нет. Если не будет телевизора, если не будут надо мной летать самолеты, если нет возможности сесть в автомобиль, если не будет еще самых разных других технических устройств, усовершенствований, то мне покажется, что жизнь эта какая-то обездоленная. То есть, в современном человеке это уже обязательно присутствует.
— И все-таки, как Вы считаете, — мы остановимся или уничтожим природу на этой планете?
— Нет, человечество не должно оказаться настолько глупым. Оно избежит катастрофы. Человек технически будет усовершенствоваться, он будет вооружаться, он будет очень мобилен и силен... Но так, что бы это все сокрушило живую природу — конечно до этого дело не дойдет.
— Как известно, основной урок истории состоит в том, что люди не помнят уроков истории. Как Вы думаете, возможно в обозримом будущем появление таких людей, как Ленин, Сталин, Гитлер, Бокоса, Пол Пот?
— Возможно. Нечто подобное, такие типы — они так или иначе будут появляться. Потому, что это та темная сила, та страшная властвующая и разрушительная сила диктаторства, которая всегда таится в подсознании или в недрах человеческого существа. Не обязательно точно такие, но нечто подобное может появиться.
— И увлечь людей?
— Да, на какое-то время создаст такую ситуацию, очень катастрофическую, имеющую последствия. Это все та же проблема, все та же история лидера и толпы, вожака и стаи. Вожак может повести людей на очень многое. Тому полно примеров и в современной жизни. Как можно убедить человека таким образом, что он становится самоубийцей? Как это называется? Когда во имя чего-то жертвует собой. Безусловно, можно думать, что эти идеи наиважнейшие и прочее, прочее, но доходить до состояния камикадзе, мне кажется, это антиестественно. Все великие идеи потом начинают исходить, укрощаться и вместо них появляются другие великие идеи. Продолжайте, развивайте и возвышайте. Но жертвовать жизнью ради них, мне кажется, нельзя. Почему об этом говорю — я задумал одну вещь, где попытаюсь отобразить, следовало ли человеку поступать таким образом, пойти на самопожертвование или все-таки следовало искать другие пути?
— Какое место, на ваш взгляд, должна занимать религия в жизни общества на пороге третьего тысячелетия?
— Это очень большой вопрос. Мне кажется, что какую-то умеренность необходимо иметь в виду. Как у нас часто бывает — из одной крайности кидаемся в другую крайность. В историческом, так сказать, плане религия пришла из далеких времен и должна иметь свое присутствие в нашей жизни. Но полагать, что религия — основополагающий фактор — я с этим не согласен. Религия — сопутствующие нравственные, моральные, ритуальные и т. д. факторы. Многие сейчас спекулируют на этом, особенно современные политики. Мне кажется, это не совсем честно. Религия должна иметь свое место, свою нишу и не более того. Все остальное — ум, сознание, деятельность человека — направленно на раскрытие сущности человеческой, ее созидательных возможностей.
О СЛАВЕ
— Менялось ли ваше миро- и самоощущение по мере того, как Вы становились писателем, признанным писателем, выдающимся писателем?
— Не знаю, может где-то в подсознании что-то и происходило. А так, чтобы я осмысливал в реальном плане — вот я писатель, и поэтому я сякой такой и прочее — я, во всяком случае, до такого не дохожу.
— Чем ваша слава на родине в Кыргызстане отличается от вашей славы в СНГ или в Западной Европе?
— Не знаю, чем она может отличаться... Ну, во-первых я еще и еще раз убеждаюсь, что известный афоризм о том, что в своем отечестве пророков нет — это очень точно. И, наоборот, например, в Европе — казалось бы, я для них совсем посторонний человек, я приезжий человек — отношение, так сказать, более возвышенное. К примеру, у меня часто бывают встречи с немецкоязычными читателями стран Германии, Австрии, Швейцарии. Собираeтся огромное количество людей — до тысячи и более. И нередко это происходит в церквях, что меня потрясает. В этот вечер, в этот день эта церковь предоставлена нам не для богослужений, не для религиозных ритуалов, а наоборот, я вижу, что священнослужитель тоже в числе этих читателей. И у нас идет вот такой живой обмен мнениями и разговор. Это же говорит о чем-то! Совсем недавно я ездил восемь дней по Швейцарии. Восемь встреч было, и две из них были в церквях. Я уже потом пошутил, говорю: «Может, вам епископ требуется?». Вот такое отношение здесь. А дома наоборот может быть. Там всегда какие-то... не знаю. Иногда, когда у меня какие-то могут быть там... неудачи что ли, — наоборот, это иногда вызывает злорадство какое-то. Потому что мы там в повседневном общении, как бы в одном кругу, под одной крышей и т.д. Обычно там люди больше проявляют хамства. Я так объясняю.
Кроме того, у нас в конце перестройки литература, писатели, резко, так сказать, сместились с места и потеряли свою значимость. И вся трагедия нашей культуры современной, не только писателей, заключается в том, что мы утратили иерархию ценностей. Что вот это прекрасно, это великолепно, это притягательно, а вот это низменно. Сейчас этого нет. Наоборот, низменное можно выдать за возвышенное и спекулировать этим. Я все это отрицаю, игнорирую. Я не буду культивировать себя на этих вот низменных страстях. Понимаете? И это сказывается и на межличностных отношениях. Европа после того как мы — литература, писатели — потерпели какое-то временное поражение, даже так я скажу, Европа меня в этом смысле как бы спасает, поддерживает. Например, в Ватикане издается очень солидный журнал, в котором появилась большая статья «Чингиз Айтматов — атеист, коммунист, мусульманин — обратился к образу Христа». И дальше идет анализ. Это же говорит о чем-то! Хотя парадоксально, конечно, назвать статью вот так. Но это говорит о том, что они при всем при том, даже при таком раскладе пытаются как-то увидеть, понять, постичь — что же это за человек такой? Что он несет с собой?
— Чингиз Торекулович, а каково ваше впечатление: где — в СНГ или здесь, в Западной Европе, — читатели более глубоко понимают философскую составляющую ваших произведений?
— Так разделить это очень трудно. Разные люди, разного круга, и там и здесь есть понимающие и непонимающие.
— Чем отличается отношение общества к писателю в разных странах?
— Так, как относилось общество в советское время, особенно в перестроечное время — такого нигде не было и вряд ли еще будет. Это был взлет, это был апогей, когда литература, писатели значили нечто особое, выражали состояние, дух общества, его устремленность, его бросок к истине. Казалось, что литература на все ответит, все скажет. Поэтому отношение к литературе, к писателям были соответствующие. Сейчас об этом даже рассказать трудно. Такой был момент исторический, такое состояние культурное, тогда мы были ценимы, очень высоко ценимы. И потом вот резкое падение всего этого. И началась другая жизнь. Пришла психология рыночной экономики. Не только психология, сама реальность. А рыночная экономика — она сразу расставляет все по-другому. На другие места. Авторитет не тот, кто несет слово, дух слова. А тот, кто в банке ведет какие-то операции.
— Где и как Вы реализуете потребность побыть наедине с собой?
— Точно на это ответить трудно. Все зависит от ситуации. Где вы находитесь, с кем вы находитесь, что происходит вокруг... Мне сейчас хотелось бы оказаться на берегу нашего озера Иссык-Куль. Оно окружено горами со всех сторон — есть только один вход и один выход. И там, на берегу этого великого, чудеснейшего озера, пожить наедине, побыть наедине, поработать, пописать было бы замечательно. Когда-то у меня были такие дни. А сейчас это мечта...
О СЕБЕ
— Хорошо сказано — все мы родом из детства. Из какого детства родом Вы?
— Мое детство военное, годы войны. И все, что война может наложить на человека, она на мне отложила. В 14 лет я стал секретарем сельсовета: все ушли на фронт, грамотных никого не осталось... Прямо в школу пришли трое стариков и увели меня. Сказали: сиди вот здесь и работай, потому что больше некому. Таким образом, три года школьного образования у меня было пропущено. Мне пришлось потом это все догонять, компенсировать как-то. Так что служебное положение — хотя я часто убегал и играл с ровесниками — раскрыло передо мной многие стороны человеческого бытия. То, что так просто я бы не увидел. Например, я разносил похоронные извещения, черные бумаги по домам, вручал их. Вы знаете, что это такое? Не дай Бог! А сбор военного налога? Каждая семья обязана была платить его безусловно, никаких льгот, никаких отсрочек. Поэтому последнюю козу человек продает, чтобы уплатить военный налог. А деньги надо собрать и отвезти в Госбанк — тогда был только один банк во всем районе. Это же надо было все пропустить через себя...
— Чингиз Торекулович, где Вы выросли, кто ваши родители?
— Людей с такой судьбой, как у моих родителей, и на Украине немало было. Отец репрессирован в 37-м году. Он был один из первых у нас образованных людей, партийный, секретарь обкома. Вся коллективизация на их плечах прошла. И они поплатились потом своей жизнью. Наш нынешний президент Аскар Акаев в этом смысле проявил чуткость и дальновидность. Многие, в том числе и мой отец, были неизвестно где и когда казнены, и неизвестно где место их захоронения. Обнаружили возле одного пионерского лагеря там, в предгорьях. Туда вот почти полторы сотни человек были брошены. Мы их перезахоронили. Вот там он кончил свою жизнь. А мать из купеческого рода. Она вот была искренне предана своей семье. Четверо нас было у нее детей — два сына и две дочери. И вот она воспитала всех нас, смогла как-то поднять на ноги.
— К кому из предков или родственников у Вас особенно теплое отношение?
— Естественно — к матери. Она и мученица, и в то же время любящая мать. К отцу — мне было девять лет, но я помню его, помню хорошо. Но живо воспроизвести его в своих воспоминаниях сейчас уже трудно. Из всех родственников я бы упомянул бабушку свою — Аймкан и ее дочь Аймкюль. После того, как бабушка ушла в мир иной, тетя продолжила миссию бабушки — в годы войны я жил у нее, и она мне помогала учиться.
— Есть ли люди, с которыми Вы дружите с детства?
— Ну, многих уже нет. Был у меня двоюродный брат Баисбек, учитель, на год старше меня. Мы с ним с детских лет всегда были вместе. Он был очень мыслящий, он видел, что происходит с моей семьей, с нами, и сочувствовал, старался как-то компенсировать. Я восхищался им, много раз его вспоминал — он, к сожалению, не дожив до 50 ушел из жизни. Мы два года жили в Москве — 35—37 годы — отец мой учился в красной профессуре, было такое партийное заведение. И для Баисбека Москва была никогда невиданная и он не имел представления..... По приезде он спросил: «Ты видел Сталина?». Я говорю: «Нет». — «Ну что ж ты там делал? Надо было сказать ему, какой он плохой человек!». Уже тогда, в детстве, он это понимал. Он видел — нас ведь просто изгнали, и мы вернулись из Москвы прямо в Шекер, туда, в мое селение.
— Сколько ему лет тогда было?
— Лет десять... Потом он стал учителем, в военные годы уже начальные классы учил.
— А кто из школьных учителей запомнился больше всего?
— Я в своем воображении представление имею, а имена уже в памяти не сохранились. Была учительница русского языка, русская женщина, очень благородная. И была искренне предана своему делу — учить этих ребятишек русскому языку. Вот она запомнилась мне.
— «Человека все могут любить, но все же он будет одиноким, если нет никого, кому он дороже всех на свете» («Дневник Анны Франк»). Вы в этом плане не одиноки? Есть ли люди, которые любят Чингиза Айтматова и без словосочетания «выдающийся писатель»?
— Полагаю, что есть. Семья, родственники, друзья... Много интересных друзей у меня, по-настоящему преданных. И я их люблю.
— Какую роль в вашей жизни и творчестве сыграла любовь?
— Ой, ну это надо много и много рассказывать! Но если так это перенести в сферу искусства — то это один из главнодействующих факторов. Потому что без этого не может быть большого настоящего искусства.
— В какой мере, на ваш взгляд, справедливо утверждение, что все, что делает мужчина, он подсознательно делает для того, чтобы завоевать женщину или обратить на себя ее внимание?
— В какой-то степени это так. В какой-то степени. Но необязательно, что он только вот этим и занимается. Поведение мужчины... Тогда надо начинать изначально, с истоков, с поведения самца, с поведения волка, быка и прочее — ведь они отличаются в своем поведении по сравнению с другими... А что, это так важно?
— Это интересно. Интересно, насколько это важно. Думаю мы, люди, иногда не осознаем, насколько биологически детерменировано наше поведение...
— Вот, в том-то и дело, что иногда это просто идет инстинктивно, рефлекторно, из каких-то очень далеких, далеких источников. Очень далеких. Которые даже не сопоставимы, не осознаваемы, ушли в подсознание.
— А если оно выплывает в сознание? Мне кажется, стесняться биологического в себе, такого, какого оно природное — например, что я мужчина — это все равно, что стесняться своих родителей.
— Да, я с вами полностью согласен. И тем не менее этот дух — он иногда принимал формы рыцарства, например, кавалер, джигит. Мужчина должен был соответствующим образом вести себя. Раньше и сейчас. Не только, вот мол я мужчина... То есть, он должен себя контролировать и соответствующим образом преподносить.
— Позвольте сразу же вопрос. Это было стимулом для вдохновения?
— У людей искусства?
— И у вас.
— Нет, я это говорю не по отношению к себе. Не знаю... Я придерживаюсь общих норм, правил взаимоотношений с людьми. Не обязательно я должен себя выпячивать, как-то красоваться... Но в то же время достойным образом представить.
— Я хотел бы уточнить. Любовь как чувство, присутствующее в жизни, в сознании, — она была стимулом для вдохновения?
— Безусловно, безусловно...
Брюссель
Выпуск газеты №:
№239, (1998)Section
Личность





