Вилен ГОРСКИЙ: Мыслители во главе государства — лишь древняя иллюзия
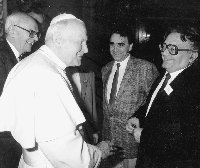
ВИЛЕН ГОРСКИЙ О СЕБЕ: Я родился в Харькове. Мой отец в молодости принимал активное участие в революционном движении. В начале тридцатых годов он как молодой специалист был отправлен на заводы Форда — там тогда готовили технарей для молодого советского государства, которое становилось на рельсы индустриализации. После года стажировки он вернулся и работал ведущим инженером на Харьковском тракторном заводе, потом — в Москве, на велосипедном заводе. В 1936 году вспомнили о его пребывании в Америке и репрессировали. В 1938 году отец умер. Но поскольку семья оставалась в Харькове, до нас с матерью не добрались. Философия — путь избранный мною. Путь пройденный. Я закончил философский факультет Kиевского университета. После того, как отца реабилитировали (уже в хрущевские времена), смог поступить в Институт философии, где прошла почти вся моя сознательная жизнь — от младшего научного до ведущего научного сотрудника. Там писал кандидатскую, докторскую, издавал книги. Первый этап моей деятельности был связан с осмыслением методологических проблем истории философии. Потом были книги по философии искусства, науки. Этот методологический цикл я закончил книгой «Историко-философское истолкование текста». Организовал больше десяти конференций, посвященных историко-философскому анализу культуры Киевской Руси, издал две книги на эту тему: «Очерки по истории философской мысли Киевской Руси ХI — ХII вв.» и «Святые Киевской Руси». Последняя моя книга «История украинской философии» — продукт преподавательской деятельности в Национальном университете «Киево-Могилянская Академия», где я работаю с 1992 года.
— Чем же сегодня, по вашему мнению, должна заниматься философия?
— В отличие от других нормальных ученых, которые решают проблемы своей науки, философы только тем и занимаются, что выясняют, а чем же занимается философия? С одной стороны, философия на протяжении тысячелетий пытается постичь предельные основания человеческого бытия — и в этом смысле она абсолютно неизменна, а с другой — эти основания на каждом этапе актуализируют абсолютно различные аспекты. Я думаю, сегодня мировая и, безусловно, наша философия переживает один из кардинальных моментов. Ведь впервые в истории человечества проблематичной стала жизнь не только отдельного человека, отдельной нации или государства: известный гамлетовский вопрос — «быть или не быть» — приобрел актуальность по отношению ко всему человечеству.
— Сегодня философия может очень точно поставить диагноз, определить положение, и... предложить врачебные рецепты, которые трудно использовать и которые никогда не будут адекватно реализованы политиками.
— Я не разделяю иллюзии, будто философы способны на совершенные практические шаги, хотя еще Платон мечтал об идеальном государстве, во главе которого будут стоять философы, которые постигнут истину и реально будут ее воплощать в жизнь. Однако те ответы, которые философия в пределах своей компетенции стремится найти сегодня, чрезвычайно важны. В кризисном положении находится не только наша страна, со всеми ее наслоениями постсоветского периода, — кризис глобальный. И актуальность проблемы человеческого бытия острее всего чувствуется именно тогда, когда проблематичным становится реальное бытие человека в реальном мире. Пока человек спокойно живет и спокойно удовлетворяет свои потребности, он не склонен задумываться над смыслом собственного существования. А вот когда человек, стремясь реализовать свою потребность жить по-человечески, наталкивается на сопротивление среды, — тогда он вынужден серьезно обдумать: что есть я, что есть мир, в котором я живу, в чем смысл моей жизни и что я должен сделать, чтобы жить в этом мире по-человечески; человек начинает философствовать. Поэтому в кризисной ситуации чрезвычайно актуализируются те ответы, которые дает человечеству философия. Философия формулирует понимание идеала, а живем мы всегда не в идеальном, а в абсолютно реальном и конкретном обществе. И смысл философии состоит в постоянном напоминании: горизонты человеческого взгляда не должны ограничиваться конкретикой, которую всегда нужно оценивать с точки зрения вечности, идеала. И как раз философия формирует этот высший взгляд, который не дает человеку успокоиться, воспитывает критическое отношение к сегодняшнему дню. Следовательно, я считаю, что политик не может быть серьезным политиком, если он не обращается к философу, но политик не должен перекладывать свои функции на философа. Так же философ не должен превращаться в политика. Попытки преобразовать философию в идеологию, в теоретическое обоснование определенной политической программы, как это у нас было, повлекли за собой уничтожение философии.
— В советские времена философия была довольно прикладной наукой — в конечном счете она заменяла религию, давая людям новый «символ веры». А в нынешнем обществе даже общечеловеческие ценности — очень призрачное и неоднозначное понятие. Обращение к философии превратилось в обременительную и непонятную условность: люди ничего не ожидают от философии, не хотят к ней обращаться и не понимают, зачем она им нужна. Вы могли бы убедить среднего обывателя, что философия в Украине — это не игрушка для клана ученых, не игра для узкого круга специалистов, которые замуровались в философии?
— Сегодня никто не может в своей повседневной жизни чувствовать себя спокойно, не стараясь выяснить, в чем смысл жизни. А это — вопросы, над которыми бьется профессиональная философия.
Ведь философствуют все, даже деды на завалинке. Однако проблема нашего общества в том, что мы пережили идеологический кризис — крах коммунистической мифологии. Но общество не может жить без веры, без мифа. И именно сейчас наше общество чрезвычайно остро нуждается в идее, которая бы всех объединила. Этот поиск не может быть успешным без обращения к философии. Миф — это то, во что верят все. Без мифа нет ни герба, ни флага, ни святынь. Но миф занимает только одно определенное звено в структуре культуры, давая как раз этот предмет веры. Другой (и очень весомый) компонент культуры — это критическое мышление. Опасность нынешней ситуации в Украине заключается в том, что на фоне утраты прежнего мифа, мы наблюдаем взаимодействие и чрезвычайную борьбу локальных (по социальному или региональному признаку) мифов, каждый из которых претендует на всеобщность, а это придает ситуации агрессивный характер — мифологическое сознание пытается не только заполнить этот пробел, в пределах которого она и должна быть, но и выйти за свои пределы, вытеснить зону критического мышления.
Эту ситуацию агрессивности мифа, если хотите, можно проиллюстрировать. Давайте мысленно подойдем к площади на Печерске, где стоит Верховная Рада, над которой развевается сине-желтый флаг — символ украинского независимого государства, а немножко ниже — на фронтоне — герб бывшей УССР, рядом — удивительный барочный растреллиевский дворец, который возрождает символы величия российской империи, напротив — братская могила рабочих и крестьян, которые погибли во время восстания во главе с большевиками в бурные годы революции. В общем, сборища символов различных мифологий в историческом мире встречаются везде. Но дело в том, что все эти мифы, символы которых я назвал и которые не просто воспроизводят отдельные этапы нашей истории, — они реально живут сегодня, — ведь есть те, кого объединяет желто-голубой флаг, есть те, кто живет под гербом УССР, есть и носители имперского мифа. Это та ситуация столкновения локальных мифов, которые борясь между собой, пытаются занять вакантное место всеобщего мифа — утраченной идеи, которая была предметом веры всего народа. Это чрезвычайно сложная и важная особенность сегодняшнего дня, и попытка рационально ее решить должна опираться не только на мифологическое сознание, но и на теоретический и критический разум. И представляет в этих поисках критический разум именно философия.
— Кто сегодня виновен в том, что философ попал в наиболее бедную социальную категорию: общество или власть?
— Власть... Если говорить серьезно, все кардинальные изменения, которые завершили разрушение последней империи, были ведь вызваны не волной массового протеста против тех постыдных дефицитов, которые изведало в материальном бытии наше общество. Двигателем всех этих изменений была не периферия, которая вела значительно худший образ жизни, а центр — Москва, Киев, где катализаторами этих процессов были не уборщицы, которым платили копейки за их тяжелый труд, а интеллигенция. Следовательно, это был протест против общества, которое лишает человека возможности реализовать собственные способности, ради такой системы, где власть будет осуществлять иные функции по отношению к философу и интеллектуалу. А она их не осуществляет, поскольку управляют люди, которые прошли школу прежней власти и которые иначе не умеют руководить.
— По моим наблюдениям, в современной «псевдобуржуазной» среде созрела довольно странная мода: дети богатых родителей зачастую стремятся получить именно философское образование.
— Я не берусь судить, насколько это у нас «буржуйская» мода. Во всяком случае мой опыт знакомства с настоящим «буржуйским» миром убеждает, что там этой моды нет. Во всех американских университетах, куда я попадал к своим коллегам на кафедры философии, наша встреча начиналась с великого плача, что живут они в той стране, которая ничего не понимает в философии, которая не хочет философии, которая живет чрезвычайно прагматично. Один этик мне рассказывал, что выживает только благодаря преподаванию курсов медицинской этики для медиков и специальными лекциями для работников тюрем об этике поведения охранника с преступником, а до теоретической этики, простите, в их обществе нет дела. Поэтому я не заметил большого внимания общественности к философии. Это как раз традиция славянской культуры и духовности, о которой стоит помнить и от которой нельзя отказываться, ибо это то, чего западной цивилизации сильно недостает.
— Как вы лично пережили 1987 и 1991 годы?
— Было много вещей, в которые я искренне верил и от которых я вынужден был отказаться под давлением фактов. Но не могу сказать, что эта перемена мировоззрения, как и у многих моих коллег, была абсолютной. Помогло мне и то, что мои профессиональные симпатии сосредоточились вокруг истории философии, да еще и древней, а по системе канонизированной в то время иерархии история философии занимала последнее место среди других актуальных философских дисциплин. Поэтому непосредственно на мою работу и перестройка, и независимость повлияли мало. Разве что теперь не нужно отыскивать какие-то цитаты из Маркса или Ленина, чтобы под этой «крышей» давать изложение идей древних философов.
— Вы могли бы назвать наиболее актуального сегодня философа?
— Платон. На нем и поныне держится вся традиция европейской философии, и нашей в частности. Кстати, это и наиболее плодотворная традиция, которая более всего претерпевала от всяческих запрещений и гонений. Ведь Платона волновали те же философские проблемы, которые волнуют и нас сегодня.
— Может ли сегодня какая-нибудь философская идея или школа выполнить в Украине ту миссию, которую в свое время выполнили идеи Ницше и Шопенгауэра в нацистской Германии?
— Ницше и Шопенгауэра нельзя обвинять в тех политических интерпретациях, которых претерпели их идеи в фашистской Германии. Нет однозначной связи между философией и политикой. Если же обратиться к нашей традиции, то на тех же идеях Шопенгауэра и Ницше основывали свои очень различные концепции и Дмитрий Донцов со своим интегральным национализмом, и Вячеслав Липинский, и убежденный в идеалах коммунизма и большевизма Николай Хвылевый.
— Можно ли сегодня реанимировать широкое увлечение коммунистическими философскими идеями?
— Я не верю в это.
— Какая философская идея или концепция вызывает у вас раздражение?
— Если осторожно и с оговорками, именно так я отношусь к французским постмодернистам. Один мой немецкий коллега, вспоминая времена третьего рейха, как-то перефразировал одного известного героя той эпохи: «Когда я слышу о постмодернизме, моя рука тянется к пистолету».
— Следовательно, вы не разделяете популярный сегодня тезис о том, что мы живем в постмодерном мире?
— Разделяю, но только в том смысле, в котором история культуры вообще может быть разделена на три глобальных этапа — «домодерн», «модерн» и «постмодерн».
— Каким вы видите будущее человечества?
— Будущее человечества — в активизации межчеловеческих отношений в глобальном масштабе, где каждый ведет свою партию в полифоническом хоре — пусть эта партия едва слышна, но если она замолчит, то проиграет от этого все человечество.
Выпуск газеты №:
№184, (1998)Section
Личность





