Незнакомый знакомец Климент Квитка
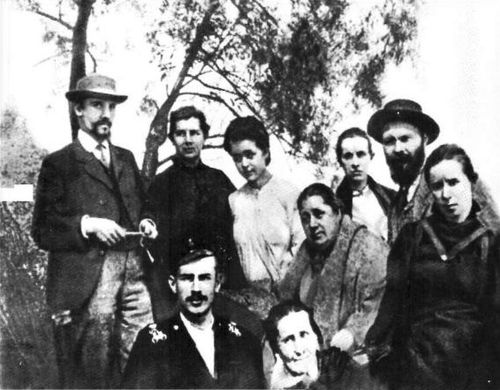
Во вроде бы хорошо известных из школьной программы сюжетах украинской культуры при более близком знакомстве вдруг возникают такие повороты и такие персонажи, что давно знакомое вдруг приобретает совсем другие смыслы. Об одном из тех, кто фигурирует в этих сюжетах, но находится в них на заднем плане, хотя достоин совсем другого, кто имеет заслуженное место в истории украинской культуры ХХ века, но о ком незаслуженно забыли почти все, кроме узких специалистов и группки интеллектуалов, и пойдет сегодня речь.
ЭТНОГРАФ
Он был этнографом, фольклористом, музыковедом, который собрал и записал, сохранил для потомков шесть тысяч народных песен. Около двухсот из них использовали украинские и российские композиторы как темы для симфоническо-инструментальных произведений. Самые выдающиеся хоровые композиции Николая Леонтовича тоже созданы на мелодии, записанные им. А еще он сумел за полвека активной научной деятельности — это были непростые времена царского, потом большевистского господства — издать около сотни научных трудов. Еще в апреле 1929 года Всеукраинская Академия наук выдвинула его кандидатуру на избрание действительным академиком, и только политические игры с избранием академиков-большевиков помешали этому заслуженному чествованию научных заслуг. А умер он ровно шесть десятилетий назад, 19 сентября 1953 года, за пределами Украины, в Москве, куда его забросила судьба, до этого дважды проведя через сталинские тюрьмы и лагеря. Его имя — Климент Квитка.
Чтобы лучше представить, кем был Климент Квитка, обратимся сначала к сухим биографическим данным.
Родился он 4 февраля (по новому стилю) 1880 года в селе Хмелев нынешней Сумской области. В 1897 году окончил 5-ю киевскую гимназию с золотой медалью. В гимназические годы учился и в Музыкальном училище Киевского отделения Русского музыкального общества по классу фортепиано. Уже в гимназии собирал народные песни, с 1996 года сотрудничал с журналом «Киевская старина». Продолжил образование в Киевском университете Святого Владимира, где одновременно был какое-то время концертмейстером хора. В 1902 году окончил юридический факультет Киевского университета. Тогда же подготовил и издал первый сборник записанных им народных песен. По окончании вуза работал в Симферопольском и Тифлисском окружных судах, параллельно вел научную работу.
В ноябре 1917 года Центральная Рад назначает Климента Квитку товарищем (заместителем) генерального секретаря по судебным делам, а в марте 1918 года — товарищем (заместителем) министра юстиции Украинской Народной Республики.
После переворота, возглавляемого Павлом Скоропадским, Квитка работает счетоводом в городе Юзовке (сейчас — Донецк).
В 1920—1933 гг. он трудился во Всеукраинской академии наук (ВУАН), где организовал Кабинет музыкальной этнографии. Одновременно преподавал в Киевском высшем музыкально-драматическом институте им. Н. Лысенко. В1933 году Квитку уволили с работы по политическим обвинениям и на полтора месяца арестовали. Оставшись без средств к существованию и опасаясь нового ареста, он переехал в Москву и начал работу в Московской консерватории, где ему дали курс музыки народов СССР и должность профессора.
В начале 1934 года его опять арестовали по т. н. «Делу славистов» и заключили в тюрьму на три года. 13 апреля 1936 года он был досрочно освобожден и восстановлен на работе в Московской консерватории. Там он был сначала руководителем фольклорной секции Научно-исследовательского института при Московской консерватории, а затем, вплоть до конца жизни, — научным руководителем основанного им же Кабинета изучения музыкального творчества народов СССР. Написал в Москве немало научных трудов, часть из которых была издана при жизни или посмертно, но большинство осталось в рукописях.
Член-корреспондент Академии искусств Украины София Грица считает, что Климент Квитка — это ученый мирового уровня: «В музыкальной фольклористике он имеет огромные заслуги не только как собиратель народных песен на территории Украины, России, Средней Азии, но и как выдающийся теоретик-мыслитель... Квитка был организатором первого в Украине музыкально-фольклористического центра, Кабинета музыкальной этнографии при Всеукраинской Академии наук. Этот Кабинет, кстати, занимался не только фольклором Украины, но и фольклором национальных меньшинств, которые жили в Украине. А это был первый такой прорыв и очень важная новация для историко-сравнительных исследований... Тогда он издал фундаментальный сборник «Украинские народные мелодии», целый ряд теоретических статей по теории моделирования ритма, целый ряд монографических исследований об одной песне, например о песнях о детоубийце, о девушке, которая отправилась с уводителем. Они исключительны для украинской фольклористики в понимании необычной прецизионности, точности исследований каждого образца. Его труды, которые я назвала, открывают новые горизонты в исследовании структурной типологии фольклора, изучения этногенеза фольклора, работы по теории лада. В тот же период, о котором я говорю, он был в очень тесных творческих контактах с другим известным ученым Колессой и в сотрудничестве с ним изучал украинские думы, в частности думы Правобережья... Изучал фигуры кобзарей, лирников, был автором первой социологической программы по изучению их жизненного пути и репертуара, это было начало такого социологического направления в украинском фольклористе.
Подвижническая работа Квитки открылась нам, фактически, только после его смерти. Я имею в виду издание двухтомника работ, вышедшего в Москве в начале 1970-х годов под редакцией и со вступительными комментариями Владимира Гошовского, а также двух сборников рукописных трудов архивных материалов, которые подготовил у нас Анатолий Иваницкий и издал их в 1985 году в Киеве. Огромные заслуги Квитка имеет прежде всего как методолог науки, разрабатывавший историко-сравнительные структурные методы исследования фольклора, методы точного текстологического анализа песни. Он поражал своей энциклопедической эрудицией, он же знал около 20 языков, это, конечно, служило ему ключом к мировой науке. Благодаря Клименту Васильевичу Квитке и Филарету Колессе украинская фольклористика поднялась до уровня настоящей исторической науки и тем самым получила надлежащее признание в мире».
Следовательно, речь идет о первостепенной величине мировой науки и о первостепенной величине национальной культуры. Но рядовой украинец, боюсь, не знает Климента Квитку вообще. А вот рядовой украинский гуманитарий Квитку знает, но преимущественно не как ученого, а как мужа Ларисы Петровны Косач, известной как Леся Украинка. Хотя даже этот рядовой украинский гуманитарий — за редким исключением — боюсь, не догадывается, чем был этот брак для Климента и чем он был для Леси. Ведь что можно прочитать в школьном курсе литературы? Разве только то, что немало народных мелодий Климент Квитка записал с Лесиного голоса...
АLTER EGO ЛЕСИ
Отношения Леси Украинки и Климента Квитки казались вызовом многим современникам. Во-первых, он был заметно моложе ее. Во-вторых, они несколько лет, вопреки тогдашним традициям даже передовой украинской интеллигенции, жили в гражданском, не освященном церковью браке. Это вызывало сопротивление и у родителей Леси. Из письма Леси Украинки к отцу: «Мені дуже дивно, що ти пишеш мені, «не удерживай Квитку, пусть едет в Швейцарію». Коли се я кого удерживаю? І чого б я мала удерживать в данім разі? Се зовсім залежить від його волі і потреби, куди їхати, а куди ні, і я нічого йому радити не буду. Не бачу теж причин, чого б я мала забороняти йому бути там, де я. [...] Мені неприємно, що і ти йому про се говорив, так, наче він божевільний чи заразний, що вже з ним в одному городі жити не можна. ...Не знаю теж, чому вираз симпатії до мене, чи дбання про моє здоров’я має називатись «вмешательством в наши семейные дела» — коли так, то й порада твоя «їхати в Швейцарію» теж есть «вмешательство»? Мені чогось неприємно те, що ти ставиш питання, чи бути Квітці там, де я, чи ні, — се мене ставить в фальшиве положення».
Только под огромным давлением родных они в 1907 году согласились на церковный брак. Правда, венчались в далекой периферийной церкви на Демеевке в Киеве, она до сих пор стоит в начале проспекта 40-летия Октября. И они пошли на это (можно проследить опять-таки из писем), чтобы от них отстали, чтобы не мешали жить вместе. Потому что жить не вместе они в то время уже не могли.
А познакомились они в 1898 году в Киеве на одном из вечеров университетского литературно-артистического общества. Уже известную поэтессу заинтересовал юноша, влюбленный в украинскую народную песню. Леся хорошо понимала, какое значение имеет профессиональная работа по записи и изучению народного творчества, следовательно искренний интерес к музыкальному фольклору и профессиональность суждений нового знакомого привлекли ее к Квитке. Она предложила ему записать песни, которые знала, и первые записи с Лесиного голоса Климент сделал еще тогда. И делал их потом все время на протяжении их совместной жизни.
Но это были годы трагического романа Леси Украинки со смертельно больным туберкулезом Сергеем Мержинским, поэтому отношения ее с Квиткой оставались на уровне приязни и дружбы. На наивысшую ступень они перешли спустя какое-то время после смерти Мержинского буквально на Лесиных руках. Квитка своей искренней приязнью спасал ее от «апогею смутку», как она сама определила свое тогдашнее состояние.
Вот красноречивый фрагмент из письма Леси Украинки к Ольге Кобылянской (которую в переписке она называла преимущественно «хтосічок», а себя «хтось»): «Мій хтосічок знає, — що хтось завжди тримався добре з «Квіточкою», але тепер тримається ще ліпше, і тепер уже «Квіточка» зовсім не може без когось жити та і хтось близько до того. Чи то зле, чи то добре, то кожний собі може думати як хоче, але вже воно так. Я не знаю, яка буде форма чи формула наших відносин, але одно певне, що будемо старатись якнайменше бути нарізно один від одного і якнайбільше помагати один одному, — се головне в наших відносинах, а все решта другорядне. Може не кожний повірив би мені на такі слова, але хтось мені повірить, я знаю».
Надо сказать, что мать Леси — известная писательница Олена Пчилка — была категорически против всевозможных отношений ее дочери «з якимсь жебраком», как она презрительно называла Климента. Даже больше: она утверждала, будто бы он «безчесна людина, що одружується з грошима Косачів-Драгоманових». Поэтому не удивительным в этом контексте выглядит фрагмент из письма Леси Украинки к родным: «Я все-таки при сьому всьому не почуваюся нещасною, і якби Кльоня (так она называла Климента. — С. Г.) не мав тенденції вдаватися до лихварів, то я б ще не такі злидні, жартуючи, прийняла, бо вони якось ні на настрою, ні на наших відносинах не відбиваються...»
Откуда «лихварі»? Дело в том, что молодые супруги решили отказаться от помощи Лесиных родителей. Все деньги, необходимые на лечение тяжелобольной жены, Климент зарабатывал сам. Да и Леся пыталась работать. Но иногда средств не хватало, тогда закладывали немногочисленные ценные вещи, продавали все, что можно было продать, кроме библиотеки, или прибегали к услугам процентщиков.
Одна только деталь, которая наглядно характеризует отношения этой пары: в провинциально-колониальном Тифлисе того времени, где работал Климент Квитка, Леся Косач-Квитка (так она в браке неизменно подписывалась) занималась не только своими рукописями — она тщательно переписывала для мужа не только тексты его научных студий, но и те бумаги, которыми он должен был заниматься как чиновник Российской империи. Как же иначе она должна была поступить: ведь речь шла о человеке, которого Леся любила. Хотя некоторые современные феминистки, высоко возносящие на своем стяге творчество Леси Украинки, и пытаются не замечать эту любовь.
В действительности же это была всепоглощающая, жертвенная любовь, которая побуждала Лесю, личность в украинской культуре все же ощутимо более значимую, нежели Квитка, на переписывание его работ и бумаг. И на рискованные для нее самой поездки в Крым, когда у любимого Клёни вдруг открылась открытая форма туберкулеза, на бесконечную заботу о своем муже. И Кленя отвечал ей тем же чувством. И при ее жизни, и после смерти поэтессы. В тогдашней газете «Рада» есть ошеломляющее описание похорон Леси Украинки. Похорон, которым всячески мешали жандармы, срезавшие ленты с гроба, пытавшиеся приказать люду «не проводить агитацию» и «прекратить антиправительственную манифестацию». И когда уже все разошлись, не послушав, конечно, жандармов, когда вся церемония закончилась, над свежей могилой надолго остался только заплаканный, убитый горем Климент Квитка.
МУЖ
После смерти жены Климент Квитка погрузился в работу. Служение Украине во времена УНР стало частью этой работы, но главной здесь была наука. Феноменальная эрудиция позволяла ученому работать в отрасли сравнительного музыковедения не только всех славянских, но и тюркских и угро-финских народов, хотя главный интерес его исследований сосредоточивался на украинской народной музыке. Он, в частности, разработал методологию изучения календарных песен, заложил теоретические основы этномузыкальной социологии и историко-сравнительного изучения музыки этнически родственных народов, основы современной музыкально-фольклористической педагогики и т. п.
Климент Квитка до конца жизни не хотел делать собственные отношения с Лесей Украинкой предметом даже научных студий, не только внимания «желтой прессы». Казалось бы, что в том, чтобы рассказать хотя бы капельку о своих отношениях с великой поэтессой и любимой женщиной? Интересно, кто бы отказался сделать это из современных мужчин, когда — вспомним! — при жизни принцессы Дианы офицер британской армии (джентльмен! дворянин!) щедро излил в «желтой» прессе реальные, а может, вымышленные детали своих интимных отношений с ней? Климент Квитка был совсем другим человеком. Вот как резко он писал тогда еще молодому, а впоследствии известному литературоведу Дмитрию Косарику относительно его просьбы рассказать об отношениях с Лесей Украинкой (хочу подчеркнуть еще раз эту деталь: она очень часто в письмах последних лет жизни подписывалась Леся Квитка или Леся Косач-Квитка, то есть словно передавала мужу право на свою судьбу и на свое имя): «Дорогий Дмитре Михайловичу! Коли Ви посилали мені запит щодо біографії Лесі Українки, Вам, певне, не спадало на думку, що Ви причиняєте мені психічну травму. Я не історик літератури, і Леся Українка для мене не предмет об’єктивного наукового досліду. Наперекір сентенції «час — найкращий лікар» — все тяжче, що зв’язане з біографією Лесі Українки, з бігом часу, робиться ще тяжчим і кожен запит щодо її біографії так на мене впливає, що на кілька днів гостро падає здатність до роботи... а потім на довго більшає загальна депресія. Як я жив в Києві, запити були часті, аж на вулиці спиняли не тільки «за довідками», а ще й ставили складні питання про генезу творів, і це було одною з причин, з яких я покинув Київ в такому настрої, щоб не вернутися ніколи, це — одна з причин, з яких я й тепер не можу перестроїти себе так, щоб поворіт до Києва був психічно можливий...»
По-видимому, Климент Квитка немножко все же немножко переставил акценты, точнее, вынужден был это сделать, ввиду реалий советского времени. Покинул он Украину не только потому, что ему было больно, когда его расспрашивали о Лесе Украинке, хотя было больно, безусловно, тоже. Покинул он ее, как уже было сказано, из-за политических преследований. Его обвиняли в национализме, потому что он слишком активно сотрудничал с Михаилом Грушевским (хотя тот был в те годы советским академиком и отошел от какой-либо политики). Но, безусловно, Леся Украинка до конца его жизни оставалась для него не литературоведческим объектом, а живым, самым дорогим, самым близким человеком.
И все же Климент Квитка сегодня фигурирует в научных исследованиях прежде всего как муж Леси Украинки. Хотя, еще раз повторю это, он был самостоятельной и значимой научной фигурой, что подтверждают и оценки специалистов, и признания Всеукраинской Академии наук. Собственно, даже то, что Леся Украинка выбрала среди других мужчин из своего окружения именно Климента Квитку, лишний раз подтверждает значимость и незаурядность его личности.
Как по тем временам, возможно, Клименту Квитке даже повезло: он побывал за решеткой тюрьмы, в печально известном концлагере «Карлаг» около Караганды, в ссылке в Алматы (где зарабатывал на жизнь чтением курса латыни), но все же вышел на свободу и получил возможность работать по специальности. Даже больше: в 65 лет Климент Квитка неожиданно для коллег женится во второй раз, на 25-летней пианистке Галине Кащеевой. Она подготовила диссертацию об украинских народных думах и работала на теоретическом отделении Московского музыкального училища имени Гнесиных. Несмотря на понятный скепсис музыкальной среды, брак этот, похоже, был удачным. Галина Кащеева собиралась написать книгу о муже, но умерла от ангины, прожив — как и Леся Украинка — только 42 года...
Квитка прожил долгую, опять-таки — как по тем временам — жизнь, 73 года. И его научное наследие остается актуальным (но, кстати, не полностью изданным) до сих пор. Жил он последние два десятилетия хотя и на чужбине, но вроде бы не оторванный от Родины. Но одновременно Квитка как научный работник и Квитка как участник и герой одной, по-видимому, из самых трогательных, самых интересных украинских историй любви ХХ века, до сих пор является фигурой по меньшей мере малоизвестной. Да, к этой паре — Леся и Климент — в наши дни приковано внимание ряда исследователей новой генерации. Но настоящее открытие Климента Квитки, которого нельзя разделить на обособленные куски — на ученого, мужа Леси Украинки и, наконец, большого патриота Украины, — фигуры целостной и в каком-то смысле трагической, думаю, еще впереди.
Выпуск газеты №:
№169, (2013)





