Две половинки украинского сердца: Шевченко и Гоголь
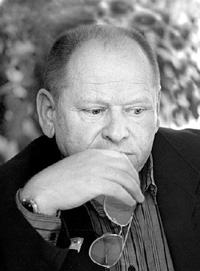
Окончание. Начало в №№ 41, 45.
Гоголю возжелалось, особенно при искренней, благожелательной поддержке Пушкина и Жуковского, влиться украинской бурлескно-комической стихией в широкое, спокойное течение русской литературы и в ней понаслаждаться в роли учителя, а то и пророка. Вознамерился всерьез и широко открыться душой перед русским миром, но его украинская душа не нашла сочувственного, искреннего отклика в душе русской. Своей творческой, вернее, словесной манерой — своим языком, который является «своеобразным идиолектом русского языка» 1, украинской ментальностью, которая так воспринимала явление, событие, характер, что сразу же обозначались резкие тона — своеобразные гиперболизированные «отголоски» процесса деградации русского человека и общества, Николай Гоголь противопоставил себя российским монархистам, тем, кто не хотел быть высмеян в «Ревизоре» и «Мертвых душах» и считал, что он исказил образ великий России. Один из них — знаменитый дуэлянт, светский лев, граф Ф. И. Толстой, о котором вспоминает О. А. Смирнова в письме Н. В. Гоголю от 13 декабря 1844 года: «У Ростопчиной при Вяземском, Самарине и Толстом заговорили о духе, в котором написаны ваши «Мертвые души», и Толстой заметил, что всех русских представили в отталкивающем виде, тогда как всем малороссам дали вы что-то сочувственное, невзирая на смешные стороны их; что даже и смешные стороны имеют что-то наивно-приятное; что у вас нет ни одного хохла такого подлого, как Ноздрев; что Коробочка не гадкая только потому, что она хохлачка. Он, Толстой, видит даже невольно существующее небратство в том, что когда разговаривают два мужика и вы говорите: «два русских мужика»; Толстой и за ним Тютчев, довольно умный человек, также отметили, что москвич никак не сказал бы «два русских мужика». Оба говорили, что ваша вся душа хохлацкая вылилась в «Тарасе Бульбе», где с такой любовью вы выставили Тараса, Андрея и Остапа...» 2
Современники Гоголя видели прежде всего в его творчестве смех — он был зримым, им писатель словно заманивал читателя и зрителя в свой творческий мир, чтобы там, осмотревшись, он мог увидеть незримые и неизвестные ему слезы. Вспомним, как в главе VII «Мертвых душ» Гоголь дает определение собственного творчества — «видимый миру смех и незримые, неизвестные ему слезы» 3. Слезы гениального художника, которые он проливал в своей душе, глядя на мерзость и подлость современной жизни. Гоголь всегда стоял, удивленный, нет — пораженный до душевного оцепенения, над бездной человеческой низости и не мог выразить этот ужас перед измельчанием души человеческой. И эта бездна, как в 41 м псалме Давидовом, манила его иодновременно открывала непознанную глубину бездны собственного духа. Николай Гоголь переживал внутреннюю борьбу альтернатив. С одной стороны он видел и воссоздавал современное общество, изуродованное аморальностью, бездуховностью, жаждой наживы, карьеры любой ценой — всем тем, что неминуемо приводит к омертвению человеческой души. С другой стороны он жаждал видеть и воссоздавать человека с живой душой, открытой навстречу вере, добру, милосердию, сочувствию, справедливости. Но такого человека как абсолютной ценности, как нравственного и духовного идеала писатель не видел и потому страдал. Поэтому Николай Гоголь и заглядывал в бездну — стремился достичь такой сверхчувствительности собственной души, когда открывается то, что за гранью разума — в сфере особого напряжения чувств, в той эмоциональной кульминации переживаний, когда загорается свет «на том берегу». На дне бездны.
Это «особое состояние познания, в котором оно приобретает другой вид, другой способ протекания и другую миссию» 4, философ Сергей Крымский называет древнегреческим словом — экуинокс. Именно в пункте экуинокса чувствуется переход познания к переживанию абсолюта, достигается тот морально-ценностный порог, за которым познавательный процесс попадает в предельную зону и сознанию открывается «третья правда».
Сергей Крымский утверждает, что Гоголь дошел до последней черты осознания невозможности воскресения согласно христианскому догмату бессмертия души «мертвых душ» своих героев, которое он вознамерился осуществить во втором томе «Мертвых душ». Поэтому и сжег рукопись, чем засвидетельствовал невозможность дальнейшей своей физической жизни. В подтверждение своего вывода философ вспоминает внутреннюю драму Льва Толстого, его бегство от себя — отказ от всего своего творчества, драму Фомы Аквинского, который внезапно в декабре 1273 года объявил 20 томов собственных теологических произведений «соломой», прекратил работу над третьим томом «Суммы теологии» и через три месяца внезапно умер. Николай Гоголь слишком глубоко проникся верой в свое призвание, в свою миссию — ставил себе сверхцель, достичь которой было невозможно. Особенно когда собственная душа раздвоена, никак не могла пройти безболезненно процесс ассимиляции в системе другой — инонациональной — культуры. Его мироощущение базировалось на духовных формах освоения мира и требовало чувственной достоверности познания, а это неминуемо приводило к заглядыванию в бездну.
Неслучайно Гоголь признавался в письме к О. Смирновой: «…Сам не знаю, какая у меня душа — хохлацкая или русская. Знаю только то, что не отдал бы предпочтение ни малороссу перед русским, ни русскому перед малороссом». Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь содержит в себе то, чего нет у другой, — явный знак, что они должны дополнять друг друга. Для этого сами истории их прошлого существования даны им непохожими друг на друга, чтобы порознь воспитались разные силы их характеров ради того, чтобы после, слившись воедино, они сотворили нечто более совершенное в человечестве».
Николай Гоголь не представлял, что органичное сочетание «разных сил их характеров» невозможно, что слияние воедино не сотворит «нечто более совершенное в человечестве» 5, потому что один этнос — украинский — находился в глубоком духовном кризисе, было нравственно обессилен своим подневольным состоянием, его национальный дух заполнила негативная эманация, тогда как русский этнос заряжался усиленно идеей мессианства, имперского величия и превосходства, утверждением «общерусскости» путем ассимиляции русской культурой других народов Российской империи.
Интуитивно Николай Гоголь это чувствовал, ибо его душа «требовала» гармонии, идеала, веры, тогда как оснований для такой веры и гармонии не было. И эта неизвестность собственной души, вернее, негармонизированность двух природ его души — «хохлика и россиянина», вынуждала его переступать через одну природу души — украинскую и рваться жить второй природой — русской и укреплять ее верой в идеальное. Но происходит резкое несовпадение идеального образа и реальной жизни — постижение абсолюта становится непосильной задачей для души художника. Его душа не смогла оживить своей любовью, одухотворить те образы, которые вырастали из реальной жизни, и они не достигали под его пером полноты первоначального замысла, не сотворялись из этого варварства бытия в идеальной форме человеческого достоинства.
Неслучайно во втором томе «Мертвых душ» внезапно появляется этот эмоциональный, на грани отчаяния, авторский монолог: «Где же тот, кто родным языком русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: вперед? Кто, зная все силы и все свойства и всю глубину нашей природы, одним волшебным взмахом мог бы направить нас на высокую жизнь? Какими слезами, какой любовью заплатил ему благодарный русский человек! Но века проходят за веками, недостойной ленью и безрассудной деятельностью незрелого юноши обращается... и не дается богом «муж, який вміє промовляти його!» 6
Постепенно величественный образ казацкой Украины, которым Гоголь стремился наполнить «миф Украины», в его воображении и сознании угасает — его затмевает идея «третьего Рима», идея великодержавной России, в которой нет места идеалу вольности казацкой Украины, поскольку все под себя подминает идея имперской государственности и русского мессианства.
«Хохляцкая» душа Гоголя сворачивается и ощетинивается, о гармонии двух душ — украинской и русской — нечего и говорить.
«То, что у Шевченко рождает неудержимый гнев, сарказм, грозные инвективы, решимость любой ценой идти против течения, ломать постылые историографические клише, валить общепризнанные авторитеты, — то у Гоголя вызывает лишь растерянность, неуверенность, душевную смуту, желание уклониться, промолчать, затаиться… Там, где Шевченко безоглядно открыт и целостен в своем национальном чувстве, Гоголь замкнут, интровертен, пагубно раздвоен…
Два разных побега одного этнического древа. Две типологически несхожие ипостаси национального характера» 7, — справедливо обобщает Юрий Барабаш.
Если Шевченко прозревал свою национальную миссию, и прежде всего в поэтическом Слове, и жестокую кару за эту миссию он принимал с достоинством, 8 то Гоголь только на первых порах загорался высоким призванием послужить национальному делу, в частности, написать историю Украины, вернуться в Киев, в университет святого Владимира. Далее его миссия заключалась в духовной деятельности на «владычном языке» ради нравственного совершенствования русского общества, прежде всего тех, кто по воле Бога властвует над другими. А главное, что сам Гоголь переживал великие борения духа, который жаждал самоусовершенствования через молитвенное раскаяние и обращение к Господу за поддержкой в укреплении собственного духа. «Дело моя — душа и надежное дело жизни» 9, — признавался он в необходимости укрепить дух как основу и залог деяния. Ибо пока не найдешь ключик к собственной душе, никогда не открыть душу другого. Николай Гоголь считал необходимым условием творческой деятельности «познание собственной души», заповедного, глубинного «я» 10, познание «природы человека вообще и души человека вообще» 11. Он искал современного человека в себе — такой путь к человеку через самопознание представлялся ему кратчайшим, ибо его душа, его сознание концентрировали в себе боли и тревоги других.
Если Николай Гоголь стремился интегрироваться в русскую действительность, но при условии ее нравственного усовершенствования, то Тарас Шевченко резко ее отрицал, бунтовал против этой самодержавной формы правления и главным обвинением ей считал уничтожение вольностей и прав Украины. Его внутренний — через творческое самовыявление — бунт был настолько эмоционально бурным, органичным, что выводил поэта на самые высокие вершины эстетического совершенства — стиль и форма его поэм, баллад, стихотворений настолько «сросшиеся», так взаимообусловлены, что природное звучание поэтического голоса нигде не ослабляется поиском инструментария для его «озвучения».
Шевченко не может — даже под страхом смерти, как это переживалось в каземате, — отречься от своих взглядов, от своего творчества, ибо это невозможно. Он неделим, нельзя оторвать от него поэму «Сон» или поэму «Кавказ» — эти мысли, переживания, эти инвективы, эта безжалостная, едкая сатира — все это Шевченко в полноте своего Я.
Многих категоричность суждений Тараса Шевченко, его смелость и безоглядность приговоров Российской империи пугали и удивляли. Не вкладывалась в сознание его современников неблагодарность Шевченко за освобождение из крепостничества — им сложно было понять, что его собственная воля мало значила для него, проникнутого болью за неволю всего его народа, что поэт не может тешиться свободой для себя, забывая о свободе для всех. Кульминационные инвективы в адрес русского самодержавия были такого высокого эмоционального напряжения, такой мощной силой духа веет от строф «Кавказу», «Сну», «І мертвим, і живим...», «Великого льоху» и «Холодного яру», «Гайдамаків», и «Заповіту», что многие из тех, кто окружал Шевченко, восхищался им, сочувствовал ему и помогал, словно пригибались, стушевывались и невольно порывались отстраниться. Величественный пророческий дух поднимал Шевченко над этим холодным миром имперского произвола. Поэтому Шевченко не боялся. Не каялся и не отступал. Потому что представлял себя национальным пророком, которого Господь послал на землю
«свою любов благовістить!
святую правду возвістить!»
Личная судьба мало интересует поэта. Он смирился уже с тем, что те, кто растлел «Господню святую славу» и кто омерзился, и служит «чужим богам», сознательно распяли его — «на стогнах каменем побили».
Шевченко не покидает безутешная боль за Украину.
«Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині —
Однаковісінько мені.
Та неоднаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, неоднаково мені.»
Гоголь также видел, насколько этот мир несовершенен, но что он настолько несовершенен и уже вступил в фазу внутреннего разрушения, художник не предвидел. Потому и страшился — душа его не смогла удержать такого напряжения переживаний, и писатель решил сознательно покинуть этот мир.
Исчерпал свои физические силы и Шевченко. Его литературное наследие насчитывает 240 стихотворений, из них 9 поэм, драму «Назар Стодоля», фрагменты двух незаконченных драм, 9 повестей, дневники, автобиографии, около 250 писем. Творческое наследие Шевченко-художника насчитывает около 835 произведений — живописных полотен, рисунков, офортов и эскизов (из них около 300 не найдено).
Оба — И Шевченко, и Гоголь — вследствие колоссального эмоционально-творческого напряжения и интенсивных самовыражений душевно истощились и вселили в сознание и чувство мысль о неизбежности близкого конца.
«Чи не покинуть нам, небого,
Моя сусідонько убога,
Вірші нікчемні віршувать
Та заходиться риштувать
Вози в далекую дорогу? —
На той світ, друже мій, до Бога
Почимчикуєм спочивать...»
Это последнее стихотворение Тарас Шевченко написал незадолго до своей смерти — 14—15 февраля 1861 года. Его мечта о хате над Днепром уже переносится в рай, где будто над Днепром широким он поставит хаточку, садочек вокруг хаты посадит, и туда к нему, в этот божий рай, прильнет его судьба-муза, которую он за три года до завершения земного бытия призывал:
«Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже вбогий, нелукавий!
Ходімо дальше, дальше слава,
А слава — заповідь моя.»
При жизни и Шевченко, и Гоголя окутывала великая слава и великое одиночество. Их не понимали, не осчастливила судьба их одиночество супружеской любовью, детьми.
Не понимали Гоголя и тогда, когда он принял решение уйти из этого мира, и это таинство покидания ставшего чужим мира он хотел затаить в себе, в своей душе.
Окружающие его люди порывались ему помочь, и чем активнее они старались, суетились, сопереживая около него, тем больше он страдал. Мучился от их непонимания таинства завершения жизни по собственной воле. Ему лили на голову холодную воду, а он отчаянно шептал: «Матушка, что они со мной делают?», его опускали в ванну, обматывали мокрыми полотенцами, лепили на нос пиявки, а он жалобно стонал и просил как можно скорее подать ему лестницу — его звало Небо. Казалось, что это молит маленький чиновник Акакий Башмачкин, пораженный насмешками товарищей по департаменту: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете» — и в этих поразительных словах звенели другие слова: «я брат твой».
Гоголь жаждал тихой, спокойной смерти — молил Богоматерь, икона которой была около него в кровати, где он неподвижно лежал в халате и сапогах, отвернувшись от этого роя сановитых московских врачей. Душа рвалась из немощного тела, а ее не выпускали, пытаясь заставить тело удерживать ее лечением то воспаления кишечника, то тифа, то нервной лихорадки, а то и безумия.
В восемь утра 21 февраля 1852 года на 43 году жизни Николая Гоголя не стало. Шевченко судьба отмерила также короткий жизненный путь — 47 лет, который завершился в Петербурге 10 марта 1861 года. Оба — и Шевченко, и Гоголь — не дожили даже до пятидесяти лет и оба умерли не на родной земле, оба горько переживали одиночество, их преследовала бездомность, всегдашний поиск приюта, желание собственного семейного тепла — родного, а не чужого, пусть приветливого, но не своего. И Шевченко, и Гоголь так и не приобрели собственный угол, хотя каждый из них об этом мечтал.
За восемь месяцев до смерти Николай Гоголь, возвращаясь из Одессы, где он завершил второй том поэмы «Мертвые души», в последний раз посетил Васильевку, в которой он не был шесть лет. В родовом имении он рисует план будущего дома, в котором отвел для себя три комнаты, тогда же закупил лес, пометил лично колоды, даже приобрел большой дубовый книжный шкаф. Он счастлив, потому что завершил главный труд своей жизни, но счастлив какой-то тихой, внутренней радостью, которую навевало осознание завершения великого дела, осуществление высокого призвания его как художника на этой земле.
Шевченко не был в Украине долгих двенадцать лет. Почти столько он был свободным человеком — двенадцать с половиной лет из двадцати трех, если вести отсчет от дня выкупа из крепостничества до последнего вздоха.
Три четверти жизни Шевченко прошли в этнически и языково чужой среде, которой, понятно, Шевченко пытался овладеть, вжиться в нее, чтобы действовать, творить, общаться… Потому он и пытался проверять свои творческие возможности и русскоязычными образцами — вспомним поэмы «Слепая» и «Тризна», драму «Никита Гайдай», повести (9 из 20 повестей сохранились), дневник… Но естественное звучание русского языка под его вдохновенным пером не утешало, хотя в этих произведениях чувствуется мощное дыхание таланта.
Шевченко всегда звала Украина, достичь которой он стремился если не физически, то духовно, обращаясь туда своим образным словом.
Летом 1859 года он отправляется в Украину с надеждой
«Хоч на старість стати
На тих горах окрадених
У маленькій хаті,
потому что ему «обісіло бурлакувати» и все чаще его душу согревала мечта найти красивую девушку, жениться на ней,
щоб з нею
Удвох дивитися з гори
На Дніпр широкий, на яри
Та на лани широкополі.»
Но не суждено. Вместо запланированных пяти месяцев Шевченко пробыл в Украине только 2 месяца и 10 дней, был арестован, сидел под домашним арестом и впоследствии был вынужден выехать в Петербург. Но мечта о собственной хате над Днепром и о женитьбе не угасала. Пишет названому брату Варфоломею Шевченко, управителю имений князя Лопухина, письма, в которых просит выбрать место над Днепром для хаты, шлет деньги для покупки земли и дерева: «На хату купи тільки соснового дерева; на двері і одвірки дубового або ясенового. Хата щоб була 10 аршин вшир і 20 вздовж. Як найдеш сухого береста, то бери; здається, краще не буде, хоч на лави» 12.
Не пришлось пожить в своем доме ни Шевченко, ни Гоголю — в другой дом суждено было уйти спать навечно.
«Ходімо спать,
Ходімо в хату спочивать...
Весела хата, щоб ти знала!..» —
иронически обратится Шевченко к своей судьбе в своем последнем стихотворении.
Так и не встретились при жизни Шевченко и Гоголь — два великих украинца. Не насладились разговором и песней, не прислонились друг к другу в горькой печали за судьбу родной Украины. Но не промедлила их слава «со своими лучами», под крылом своим прижала их к большому украинскому сердцу и навеки соединила в бессмертии Слова.
1. Михед Павло. Пізній Гоголь і бароко: українсько-російський контекст. — Ніжин : «Аспект-Поліграф». — 2002. — С. 45.
2. Русская старина. — 1888. — № 10. — С. 132— 134.
3. Гоголь М.В. Твори : В 3 т. — К., 1952. — С. 135.
4. Кримський Сергій. Запити філософських смислів. — Київ : Вид. ПАРАПАН, 2003. — С. 77.
5. Гоголь Н.В. Собр. соч. : В 7 т. — Т. 7. С. 246.
6. Гоголь Микола. Програмні твори. — Київ : «Обереги», 2000. — С. 270.
7. Барабаш Юрій. «Коли забуду тебе, Єрусалиме…» — С. 225.
8. У вірші «Н.Костомарову» поет писав:
Молюся! Господи, молюсь!
Хвалить Тебе не перестану!
Що я ні з ким не поділю
Мою тюрму, мої кайдани!
9. Гоголь Н.В. Полное собр. соч.: В 14 т. — Т. 8. — С. 299.
10. Барабаш Юрий. Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков. Москва. Наследие. — 1995. — С. 184.
11. Гоголь Н.В. Полное собр. соч.: В 14 т. Т. 8. — С. 443.
12. Шевченко Тарас. Повне зібр. творів : У 6. — К., 1964. — Т. 6. — С. 262.
Выпуск газеты №:
№50, (2004)Section
История и Я





