Между анархией и монархией...-4
Роль ментальных особенностей украинцев в формировании их представлений о государстве и праве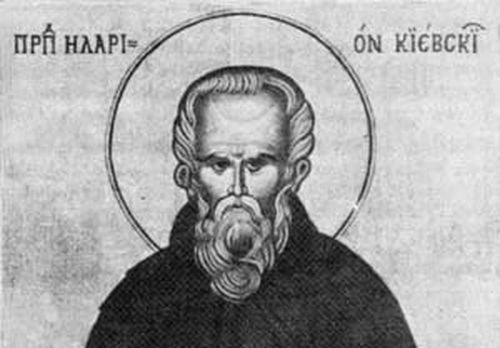
Окончание. Начало читайте «День» №150, 155, 159
СЛОВО О ХРИСТИАНСКОМ ВЛАСТИТЕЛЕ
Развитие школьничества, наличие переводной византийской литературы, концентрация ученых людей, книжников как в религиозных центрах (монастырях, при епископских кафедрах), так и при княжеских дворах — все это создавало благоприятные условия для появления в Киевской Руси оригинальных произведений. Уже во времена Ярослава Мудрого грамотность в городах стала относительно распространенным явлением. Сохранились легендарные рассказы о большой библиотеке этого князя. Именно к тому времени относится появление одного из первых древнеруських религиозно-философских текстов.
Им стало «Слово о Законе и Благодати», авторство которого приписывают Иллариону, что во времена Ярослава Мудрого, с 1051 г., был киевским митрополитом. Его поставили по инициативе князя собором руських епископов без согласия константинопольского патриарха, что свидетельствовало о попытке светской власти и руських церковных кругов стать независимыми от Византии. Написание «Слова...» относят к 1037-1050 гг. Авторство Иллариона не является окончательно доказанным, однако считается достаточно вероятным.
«Слово...» является произведением, где на теоретическом уровне происходит осмысление одной из важнейших, «поворотных» проблем для Киевской Руси — «выбора веры», что вылилось в принятие христианства.
Илларион пытается представить Русь как христианское государство.
Концепция христианского государства утвердилась в Византии в середине I тысячелетия. Еще во времена правления императора Константина Великого (около 272 — 337) христианство становится официальной религией этого государства.
Тогда берет начало не только союз императорской власти с христианством и церковью, но и формирование концепции «христианской империи». Все-таки в предыдущие времена в Римской империи, которая так и не стала наследственной монархией, преобладало мнение, что государство — не собственность правителя (невзирая на усиление императорской власти), а что правитель — это часть государства, о благе которого он должен заботиться.
В общих чертах концепция «христианской империи» и, соответственно, «христианского императора», была сформулирована Евсевием — современником и соратником Константина Великого. Он развил идею о богоизбранности христианской власти. Если Бог — вседержитель, пантократор, глава всего существующего порядка, то император — это космократор, который является главой земного порядка, что уподобляется небесному.
Римская империя у Евсевия трансформировалась в священное «христианское государство» — государство христиан и для христиан, созданное Богом для реализации его промысла. И править таким государством должен христианский император.
В произведении «Жизнь Константина» Евсевий творит образ идеального христианского правителя. Там, в частности, проводится мысль, что светская власть распоряжается мирскими делами подданных, духовная — их душами. Но они обязаны действовать совместно. Фактически Евсевий выразил мнение о единстве светской и духовной власти, единства их обязанностей перед Богом при распределении функций в государстве.
Содействие распространению христианства, укрепление положения Церкви, считал Евсевий, — одна из главных обязанностей императорской власти. Император — не только глава государства, он же и земной провожатый христианского народа.
Невзирая на сопротивление «язычников», в Византии все же утверждается концепция «христианского государства».
С 451 г. в Византии в практику входит обряд церковного коронования императора как одна из официальных церемоний в процессе формального его избрания. И хотя в то время этот обряд имел второстепенное значение в сравнении с гражданской, «земной инвеститурой», однако в конце VI — в начале VII в. он выходит на передний план. Венчание на царство патриархом в храме святой Софии, который, кстати, был построен во времена Константина Великого, становится важнейшим актом приобщения к императорской власти.
На этот период в основном приходится окончательное утверждение концепции «христианского государства». Большую роль в этом плане сыграл Юстиниан (около 482—565), при правлении которого, в частности, была осуществлена кодификация законодательства Византийской империи. В его время «язычники» испытали значительные ограничения, в частности была закрыта Платоновская Академия. Зато христиане значительно усилили свои позиции. Символично, что на монетах Юстиниан изображался не только с таким символом власти как скипетр, но и также шаровидным государством, которое увенчивалось крестом.
При Юстиниане императорская власть однозначно трактуется как власть, поставленная Богом. В то же время утверждается идея симфонии — единства духовной и светской власти. Юстиниан считал, что «в едином государстве единый закон и одна вера». Соответственно, он рассматривал Византию как единый государственно-церковный организм.
Илларион, ориентируясь на византийскую концепцию «христианского государства», в своем произведении «Слово о Законе и Благодати» проводит мысль, что Русь подобна Византии, а в своем христианском благочестии даже стоит выше ее.
Так, этот автор, противопоставляя Закон (иудаизм) Благодати (христианству), будто бы пытается провести такую идею: мол, как иудеи, что первыми приняли слово божье, стоят ниже народов, которые приняли это слово позже, так и в настоящее время благодатнее являются не те народы, которые раньше приняли учение Иисуса Христа, а те, которые сделали это после них. Следовательно, христианское первородство Византии относительно Руси превращалось из заслуг в недостаток. Русь, напротив, приняв христианство позже, становится носителем «высшей» благодати, чем Византия. Конечно, это не говорится прямо. Такая мысль скрыта в контексте «Слова...». Однако для тогдашнего книжника, который очень внимательно вчитывался в написанное, часто пытаясь найти в нем потайной смысл, контекст имел не меньшее значение, чем сам текст.
Например, в «Слове...» звучит такая мысль: «Хорошо было Благодати между новыми людьми воссиять. Не вливают потому что, по словам Господним, вино нового учения благодатного в мехи старые, обветшалые в иудействе. А то мехи прорвутся и вино прольется». На первый взгляд кажется, что речь идет лишь о приоритете над иудеями новых народов, которые приняли христианство. Но использование евангельской притчи, что новое вино нужно вливать в новые мехи, придает этой идее несколько другого звучания: новые мехи, собственно, новые народы имеют большую ценность, чем старые.
История осмысливается Илларионом как развитие, суть которого заключается в познании Бога все большим и большим количеством народов. Сначала Бог открылся через Моисея лишь евреям, позже через Иисуса Христа его познали «новые люди», апостолы, которые проповедовали среди народов Римской империи. Теперь же христианство пришло в Киевскую Русь.
В «Слове...» находим следующие рассуждения: «Все края, и города, и народы будут почитать и воспевают каждый своего учителя, того, который научил их православной вере». Таким апостолом-учителем для Киевской Руси становится князь Владимир. Автор «Слова...» стремится утвердить мысль, что апостольство князя Владимира не ниже, а даже выше, чем апостольство учеников Иисуса. Он пишет: «Не видел еси Христа, не ходил еси с ним, а стал учеником его! Другие, видя его, не уверовали, ты же, не видя, уверовал. Те, что ведали Закон, и пророки, распяли его. Ты же, ни закона, ни пророков, не прочитав, распятому поклонился». Поэтому христианская вера князя Владимира — что-то чрезвычайное.
Илларион сравнивает Владимира с императором Константином: «...с ним одинаковой славы и чести достоин». Параллель «император Константин — князь Владимир» стала общепринятой в древнеруськой литературе и использовалась книжниками длительное время. Эту параллель даже встречаем в первой печатной Библии на старославянском языке — Библии Острожской (1581).
Благодаря «Слову...» князь Владимир превратился в уникальную для христианства фигуру. С одной стороны, он апостол, который влил христианство в «новые мехи», распространил его среди «нового народа» — руського. Владимир даже превзошел верой других апостолов. С другой стороны, он правитель, который утвердил христианство среди своего народа. Таким образом, фигура этого князя возвышается выше всех христианских подвижников.
В «Слове...» видим обращения к проблемам, которые тревожили наших предков, по крайней мере, их элиту. В произведении давалась оригинальная, «проукраинская» интерпретация поставленных вопросов. Обращаясь к христианству, автор «Слова...» пытался его приспособить к киево-руським реалиям, творя на христианской основе новый руський символический мир. Для этого он возвеличивал князя Владимира. И, очевидно, не без влияния «Слова...» этот князь превратился в символическую фигуру «крестителя Руси». К тому же он предстает как христианский правитель. Образ такого правителя становится своеобразным идеалом для руських книжников. Он фигурирует в ряде произведений, прежде всего в произведениях летописного характера.
ВЗГЛЯДЫ НА ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
«Повесть временных лет» справедливо считается яркой памяткой древнерусьского летописания, одной из вершин в развитии тогдашней исторической мысли. В то же время в этом произведении встречаем и определенные теоретические взгляды, в частности такие, которые касаются вопросов государственного устройства и права.
Составитель летописи использовал широкий спектр книжных источников - обращался к Библии, византийским историческим хроникам Георгия Амартола, Иоанна Малалы, «Летописца» константинопольского патриарха Никифора, житийной литературы и т.п. Окончательная редакция «Повести» появилась в начале XII в. Однако в предыдущие годы, начиная с конца IX в., в Киевской Руси писались летописные своды, которые были использованы составителем.
Сильное впечатление производит вступление к «Повести», где представлена широкая картина мировой истории, осуществлена попытка определить в ней место славян и Руси, утверждается идея взаимообусловленности истории всех народов. Правда, подобные вступления «от начала мира» с поисками генезиса своих народов в библейской истории были характерны для тогдашних византийских и западноевропейских хроник. Встречаем здесь также определенные теоретические рассуждения.
Рассказывая о генезисе различных народов со времен Ноя, об их разделении после разрушения Вавилонской башни, летописец говорит о прародине славян: «Спустя много времени сели славяне на Дунае, где есть теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись по земле и назвались именами своими».
Основное внимание в «Повести» обращено на полян. Они выделяются среди других славянских племен. Их прапредками являются братья Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь, которые основывают полянскую столицу Киев. В «Повести» специально подчеркивается, что они были «мужами мудрыми и сообразительными». Мудрость рассматривается как большая ценность, помогает выстоять в борьбе с иноземцами и подняться над другими славянскими племенами. Судя по контексту «Повести», мудрость позволила князю Кию осуществить поход на Царьград, где он принял от какого-то византийского императора «честь большую».
У полян мудрость сочетается с «хорошим обычаем», собственно обычным правом, - еще одной важной ценностью. Летописец говорит: «...поляне имели обычай своих предков, тихий и мягкий, и учтивость к невесткам своим, и к сестрам, и к матерям своим, а невестки к свекрам своим и к деверьям большое уважение имели». Как видим, «добрый обычай» касается родовых отношений. Род был основным звеном тогдашнего общества. Он обеспечивал человеку относительно приемлемые условия жизни, защищенность, воспроизводство народонаселения.
В «Повести» полянам противопоставляются древляне. Их нравы, наоборот, трактуются как недобрые: «А древляне жили звериным обычаем, жили по-скотски: и убивали друг друга, [и] ели все нечистое, и браков у них не было, а умыкали девиц у воды».
Немало внимания «Повесть» уделяет борьбе славян против чужаков, которые притесняли их. Среди них выделяются обры (авары). Летописец подчеркивает, что они были «умом горды», осуществляли надругательства над славянами. Поэтому Бог перебил их.

МИТРОПОЛИТ ИЛЛАРИОН, СОРАТНИК ЯРОСЛАВА МУДРОГО, БЫЛ ИЗВЕСТНЫМ ПИСАТЕЛЕМ, ПРОПОВЕДНИКОМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ МЫСЛИТЕЛЕМ ДРЕВНЕЙ УКРАИНЫ-РУСИ
Итак, ум способен порождать мудрость, которая является благом, но он порождает и гордость, что является злом. Последнее ведет к погибели племени, потомства. Род, его воспроизводство является для летописца главной ценностью. Он - мерило добра и зла. Ему подчинены другие ценности, в т. ч. мудрость, общественный порядок, уклад.
Мудрость помогает полянам выстоять в борьбе с чужаками.
На фоне мудрости полян совсем незамысловатыми выглядят словене и другие народы севера Древнерусьского государства. «Повесть» постоянно противопоставляет новгородцев-словен полянам, возвышая последних. В этом случае нашла отражение конкуренция между основными политическими центрами Руси - Киевом и Новгородом. Чудь, словене, кривичи и весь, говорится в «Повести», выгнали «варягов за море, и не дали им дани, и стали сами у себя владеть. И не было среди них правды, а встал род на род, и были усобицы у них, и воевать они между собой начали. И сказали они: «Поищем себе князя, который бы владел нами и рядил по соглашению, по праву». Таким образом, у словен и их соседей не хватило мудрости, чтобы достичь правды, мира. Поэтому они ищут чужого князя. «Пошли... за море к варягам, к руси. Потому что так звали тех варягов - русь... Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». То есть северные племена признают свое бессилие, то, что у них «нет порядка» (в отличие от полян). Они призывают к себе править трех братьев Рюрика, Синеуса и Трувора. Сразу напрашивается параллель с Кием, Щеком и Хоривом. И здесь, и там правителями являются три брата. Но если у полян - это свои, выходцы из родного племени, то совсем другая картина у словен и их соседей.
Хотя «Повесть» должна признать: варяги со временем подчиняют полян. Сначала это делают Аскольд и Дир, затем Олег. Но на факт завоевания внимание не обращается. Поляне, у которых, судя по контексту произведения, перевелась княжеская династия, едва не добровольно подчиняются варягам, ища у них защиты от хазар. Став княжить в Киеве, варяги признали первенство полян над другими племенами, назвали Киев «матерью городов русьских», то есть своей столицей.
Из легенды о призвании варягов следует, что сначала основой общественной организации были роды. Однако между родами возникали междоусобицы, войны. Для того, чтобы этого не было, нужно, чтобы существовало государство во главе с сильными и мудрыми правителями. Такое государство, насколько можно понять из контекста «Повести», образуется в результате договоренностей (нечто наподобие того, что позже в европейской государственно-правовой мысли началось именоваться «общественным договором»). Ведь «неразумные» словене и их соседи, которые не способны навести порядок в своем доме, заключают соглашение с варягами, определяя определенные правила (право), по которым те будут управлять ими. Можно понять, что те, кто призывал их, отрекались от части своих прав в пользу князей-чужаков, чтобы те навели порядок на их землях.
Несколько иначе создается государство у полян. Здесь князьями становятся выходцы из местного племени. Правителями они же стали благодаря своим способностям.
В целом государство в «Повести» представляется как результат своеобразного «общественного договора». Исследователь русьского права Иоанникий Малиновский писал по этому поводу: «Юридической формулой взаимопонимания был «ряд», т.е. условие между князем и народом. Народ избирал князя на вече и составлял с ним «ряд». При этом люди, их роды сохраняли за собой определенные права. Но подчиняются князю или князьям, чтобы те обеспечивали порядок в государстве, совершали военные походы, защищали свою землю от чужаков. «Князь, - писал упоминавшийся Малиновский, - не только был посредником в борьбе между составляющими элементами государства, между отдельными группами людности, классами и партиями. Он одновременно является защитником земли от внешних врагов...» Одна из главных добродетелей князя - это мудрость. Именно она помогает князю умело править. Позже к добродетелям князя была добавлена преданность христианской вере.
Мудрость, умение навести порядок в своем государстве присущи княгине Ольге, которая становится одной из самых ярких фигур первой части «Повести». К тому же она выступает как первая правительница-христианка на Руси. Летописец подробно описывает, как Ольга сумела перехитрить глупых древлян и отомстить за убитого ими своего мужа Игоря, уничтожив их лучших мужей и испепелив древлянскую столицу Коростень. Ум полянской княгини превосходит ум мужчин-чужаков. Это касается не только древлян. Ольга сумела даже перехитрить византийского императора, который хотел жениться на ней. Вот как этот эпизод описывается в «Повести»: «Отправилась Ольга в Греки и прибыла в Царьград. А был тогда царем Константин, сын Льва. Увидев ее, красивую с лица и весьма толковую, удивился царь уму ее и разговаривал с ней, сказав ей: «Достойна ты еси царствовать в огороде этом с нами». Она, поняв [его речь], сказала к царю: «Я поганинка есмь. А если ты хочешь крестить меня, то крести меня сам. Если нет - иначе не буду креститься». И окрестил ее царь с патриархом...» При крещении Ольга получила имя Елена - как мать Константина Великого. «А после крещения призвал ее царь и сказал ей: «Я хочу взять тебя в жены». Она тогда сказала: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это - ты сам знаешь». И сказал царь: «Перехитрила ты меня, Ольга». И дал ей дары многие - золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные; и отпустил ее, назвав своею дочерью». Летописец специально подчеркивает, что Ольга «весьма толкова», ее разуму удивляется сам царь, признавая, что она достойна царствовать.
Мудрость в «Повести» часто трактуется как военная хитрость, умение ввести в заблуждение противника. Подобное понимание присуще древним обществам. Оно встречается в поэмах Гомера, например, когда речь идет о хитроумном Одиссее.
Мудрой правительнице Ольге, которая приняла христианство и обустраивал свое государство, фактически противопоставляется ее сын - князь Святослав. Он отказывается креститься и не хочет сидеть в Киеве, осуществляя походы на чужие земли. Не зря его упрекают киевляне: «Ты, князь, чужой земли ищешь и заботишься [о ней], а свою оставил».
Невнимание к своей земле заканчивается для князя Святослава трагически. Его у днепровских порогов убивает печенежский князь Куря.
В «Повести» также встречается идея обычая. Под ним, как уже говорилось, понималось традиционное, обычное право, царившее в архаических социумах. Летописец подробно описывает обычаи не только полян, врагов-конкурентов древлян, но и других народов, подчеркивая, что обычай должен быть добрым.
Идеей, созревшей в социально дифференцированном обществе, была идея порядка. Порядок должен обеспечивать мир, стабильность. Источником порядка является разум - и членов социума, и прежде всего князей. Летописец считает, что именно разумность, понятливость сделали Ольгу достойной правительницей. В то время как глупость погубила лучших древлянских мужей, а «гордый ум» - обров.
С идеей порядка связана идея соглашения и права. Когда нет порядка, который базируется на разумности, необходимо соглашение и производное от него право.
В «Повести» также приводятся правовые документы, в частности соглашения между князьями Олегом и Игорем с одной стороны и византийцами - с другой. Эти соглашения имели межгосударственный характер. Их появление в «Повести», вероятно, не случайно. Составитель летописи давал понять, что еще в языческий период русичи имели свое государство, представители которого фактически на равных вели диалог с Византией.
Взгляды на государство и право, которые нашли отражение в «Повести», стали результатом развития общественного мнения в древнерусьский период. Они также нашли отражение в других произведениях того времени.
ДУХ «РУСЬСКОЙ ПРАВДЫ»
С князем Ярославом Мудрым традиционно связывается становление русьского права. Есть здесь, правда, немало непонятных и дискуссионных моментов. Но несомненно одно: именно при этом князе основана была письменная фиксация права на Руси - по крайней мере в относительно широких масштабах.
Именно Ярославу Мудрому приписывается создание т.н. краткой редакции «Русьской правды». Эта редакция дошла до нас в двух списках XV в., которые включены в Новгородскую первую летопись младшего извода под 1016 годом. Там помещен рассказ о победе Ярослава над Святополком, после которой он стал княжить в Киеве, а новгородцам, которые помогли ему, он дал деньги, а также грамоту, где приводилась сокращенная редакция «Русьской правды».
Список упомянутой летописи дошел до нас с середины XV в.
Существует значительная литература, касающаяся исследований «Русьской правды», в частности ее краткой редакции. Появление расширенной редакции этой памятники права преимущественно связывают с потомками Ярослава Мудрого.
Одним из самых авторитетных исследователей «Русьской правды» является российский ученый Александр Зимин. В своей фундаментальной монографии, посвященной этой памятке, он обозначил следующую картину ее формирования.
Зимин считал, что еще до 1016 года могли существовать какие-то записи общинного права, сделанные киевскими князьями. Свидетельством этого, по его мнению, являются договоры Руси с греками. Так, в пятой статье договора 911 года говорится о некоем «закон русьском». Нечто подобное есть и в договоре 944 года. Шестая статья этого документа указывает, что преступник наказывается «По уставу и по закону русьскому». Во времена княжения Владимира происходило дальнейшее развитие права. Право обычное начало меняться государственным, собственно княжеским.
Бесспорно, у русов было свое обычное право, которое постепенно трансформировалось, превращалось в государственное. И в этом вопросе можно согласиться с Зиминым.
Зимин считает, что Ярослав Мудрый продолжил процесс русьского правообразования. В 1016 году он составил новый кодекс - «Русьскую правду». И даровал ее новгородцам за то, что они помогли ему завладеть Киевом. Этот документ, по мнению исследователя, является свидетельством правового оформления процесса создания Русьского государства. Отныне князь перестал быть главой полуразбойнической дружины, а стал главой Руси как государственного организма. После окончательной победы Ярослава Мудрого над Святополком «Русьская правда» получила общерусьское распространение.
В целом трудно говорить, как «Русьская правда» стала «основным законом» Руси. Так же трудно говорить, что в краткой редакции этого правового документа идет от Ярослава Мудрого, а что появилось в ней после съезда его сыновей в Вышгороде в 1072 году. Но не будем говорить о таких нюансах, которые являются важными для историков права.
Лучше обратим внимание на «дух» «Русьской правды», собственно, правовые идеи, нашедшие в ней выражение. Исследователи справедливо обращали внимание, что этот документ не имеет соответствий ни в Византии, ни в странах Европы. По крайней мере там таковых не найдено.
Однако сомнительно, что «Русьская правда» выросла из общинного права. Например, в ней была снята кровная месть. И если при Ярославе она частично еще существовала, то Ярославичи ее уже отменили.
«Русьская правда» - это «конституция» общества, где царят торговые отношения. Нет смысла говорить о гуманизме этого правового кодекса, как это делают некоторые «патриотически настроенные» исследователи. «Русьская правда» - довольно прагматичный и... циничный документ. В нем все имеет свою цену, в том числе и жизнь человеческая. При этом цена жизни богатого или влиятельного человека заметно выше, чем простолюдина. Например, в одной из статей читаем: «Если убьют княжеского мужа во время разбоя, то платы вервь 80 гривен той верви, в которой голова убитого лежит, а если простолюдин, то 40 гривен». По любое преступление можно откупиться.
«Русьская правда» не могла появиться в обществе, где господствовало натуральное хозяйство, а торгово-денежные отношения были сведены к минимуму. Такое право, скорее, зародилось в варяжских военно-торговых корпорациях, которые были или на Волжском пути, или на пути из «варяг в греки». Позже это право, трансформировавшись, стало государственным. Особенно действенным и приемлемым оно было в больших городских центрах - Киеве, Новгороде и др.
ВЛАДИМИР МОНОМАХ: КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КНЯЗЬ
Владимир Мономах (1053-1125) - один из самых авторитетных русьских князей, выдающийся полководец. В своей политической деятельности он стремился сохранить политико-экономическое, духовно-культурное и религиозно-церковное единство Руси. Князь имел возможность знакомиться с достижениями высокой византийской культуры.
Мономаху приписывают произведение «Поучение» - наставление своим сыновьям-княжичам. Оно состоит из трех самостоятельных частей: собственно «Поучение», «Летописи» жизни князя («Автобиографии») и письма («грамотицы») постоянному политическому сопернику Мономаха - князю Олегу Святославичу. Все составные части «Поучения» связывает единое идейное направление.
«Поучение» является автобиографическим произведением с заметными политологическими аспектами. В частности, Мономах обосновывает идеал христианского властителя - князя, гармонично сочетающего в себе государственного мужа, охранника своей земли и адепта христианской веры.
Исходя из принципов христианского миропонимания, князь призывает по-доброму относиться к ближним, прощать грешников: «Всего же паче - убогих не забывайте, но, насколько есть возможность, по силе кормите и подавайте сироте, и за вдову вступитесь сами, а не давайте сильным погубить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте [и] не повелевайте убить его; если [кто] будет достоин [даже] смерти, то не губите никакой души христианской», «больных проведайте, за мертвецом идите, потому что все мы смертны. И мимо человека не пройдите, не поприветствовав, доброе слово ему подайте».
Важным моментом этических установок «Поучения» является принцип «милостыни», согласно которому общественные отношения гармонизируются при помощи добровольной раздачи «лишнего» богатства нищим людям. Как уже говорилось, эта идея фигурировала в переводной византийской литературе, в частности в Изборнике Святослава 1076 года.
В контексте христианских установок Мономах акцентирует внимание на необходимости соблюдения клятв, договоренностей: «А если вы будете крест целовать братьям или [другому] кому, то [делайте это], только выверив сердце, что на нем [целовании], вы можете устоять - тогда целуйте. А поцеловав, соблюдайте [клятву], чтобы, переступив [ее] не погубить души своей». Обращение внимания на этот момент обусловливалось тогдашними русьскими реалиями. Не раз и не два князя нарушали заключенные договоренности. Однако среди лучших представителей вызревала идея создания такого порядка, при котором бы эти договоренности соблюдались. К сторонникам этой идеи, которая стала предтечей концепта правового государства, и принадлежал Мономах. Один из его потомков, князь владимирский и галицкий Роман Мстиславович, даже пытался заключить широкомасштабный договор между русьскими князьями, который бы регулировал политические отношения между ними.
Мономах призывает с уважением относиться к ближним: «Старых чти, как отца, а молодых - как братьев». Подчеркивает необходимость уважительного отношения духовных лиц, «чтобы получить через их молитву [милость] от Бога». Как христианин он понимает временность, бренность своей жизни: «Смертны мы, ныне - живы, а завтра - в гробу. Это все, что ты нам, [Боже], дал еси, - не наше, а твое [его] нам поручил ты еси на немного дней». Отсюда призыв смирить гордыню.
Однако такой «христианский пессимизм» не мешает Мономаху быть активным, о чем и свидетельствует его «Поучение». Он придерживается мнения, что не надо зря тратить время, а еще нужно ответственно относиться к своим обязанностям: «В доме своем не ленитесь, а за всем смотрите. Не полагайтесь на тиуна, ни на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам, ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод. Ни питью, ни еде не потакайте, ни сну. И сторожей сами наряжайте, и [в] ночь только со всех сторон расставив вокруг [себя] воинов, лягте, а рано встаньте. А оружие не снимайте с себя скоро, не рассмотрев [все] по лености, ибо нагло человек погибает».
Создаваемый Мономахом образ правителя вытекал из реалий тогдашней жизни Руси. Такой правитель - прежде всего воин, пребывающий в ратных трудах. Труд для князя - благо. Он постоянно должен себя совершенствовать. В то же время князь, если хочет добиться успеха, должен все держать под своим контролем. Важным моментом в жизни правителя является его христианская вера. В частности, Мономах призывает своих потомков постоянно обращаться к Богу, молиться.
Выпуск газеты №:
№170, (2019)Section
История и Я





