Пантелеймон Кулиш в «Абботсфорде»
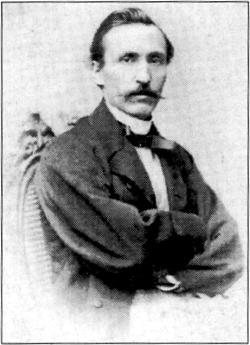
Окончание. Начало см. в №231 на стр. «История и «Я»
«Я ТЕПЕРЬ ХОЖУ, КАК ПЧЕЛА ПО СОТАМ…»
В первой половине ХIХ ст. Александровка была небольшим городком, насчитывавшем около трех сотен дворов с населением полторы тысячи человек. Михалу Грабовскому принадлежал здесь большой надел земли, имение, доставшееся от отца, и 229 крепостных мужского пола. Документы свидетельствуют, что уже в самом начале 1830-х он был женат на Каролине Росцишевской, дочери чигиринского помещика (детей, впрочем, у супругов не было). Судя по всему, хозяин имения был рад гостю: в разговорах выяснилось, что они оба увлекаются стариной, народными преданиями и песнями, да и во взглядах на литературу они оказались единомышленниками. О радости же Пантелеймона и говорить нечего!
Александровские «труды и дни» П. Кулиш считал такой важной вехой своей жизни, что и в письмах, и в мемуарах уделял им исключительно много внимания. Вот его «Хуторская философия» 1879 года: «Он (М. Грабовский. — В. П. ) устроил меня рядом со своим кабинетом, в комнате, окна которой выходили в парк, и прожил я у него несколько недель, в таком восторге счастья, которым разве что полнится душа праведника у Господа на небесах... Грабовский писал новый роман, я рисовал с натуры, или же — приводил в порядок написанное на лету из уст народа. Он мне читал каждый раз написанное им утром; я показывал ему мои эскизы или читал народные сказания, думы, песни и что-то из своих, разумеется, очень плохих выдумок…» В Александровке П. Кулиш обошел все хаты, пасеки и левады, записывая песни, легенды, сказания о старине. Позже они появятся на страницах его «Записок о Южной Руси» (1856). «Я теперь хожу, как пчела по сотам, — писал Кулиш 31 июля 1843 г. в Киев своему покровителю Михаилу Юзефовичу, — где только встречу седую бороду, не отойду от нее без того, что не выжать из нее пахучего цветка народной поэзии, или в предании, или в песне. Изучение этих малороссийских антиков так же меня совершенствует, как совершенствуют живописца антиков скульптуры»…
В Александровке формируется и достойная удивления жизненная программа Кулиша, которую он с «бенедиктинской» настойчивостью и работоспособностью будет реализовывать в последующие годы, преодолевая при этом множество препятствий и прилагая для достижения поставленных целей весьма энергичные и волевые усилия. В том же письме Юзефовичу находим признание о намерении написать исследование о Колиивщине. Авторитеты Пантелеймона не пугают: он весьма критически (и даже вызывающе) высказывается об изысканиях М. Максимовича, посвященных Колиивщине. Не останавливает его замыслы и то, что историю гайдамаков пишет в Одессе А. Скальковский.
Кулиша переполняют молодые силы, честолюбивые планы, благородные желания послужить своему народу. В том же 1843 г. он писал московскому историку М. Погодину: «Замышляю я так много, что иногда боюсь, не слишком ли я самонадеян? Во-первых, хочу издать (с помощью некоторых особ) все малороссийские летописи с возможно полными комментариями; во-вторых, издать малороссийские песни, которых много собрано лично мною в народе; в-третьих, издать народные предания, легенды, мифологию, пословицы и всякую мелочь, в-четвертых, издать Историю Малороссийских фамилий, как огромный сборник материалов для истории; наконец, в-пятых, написать на основании всего этого Историю Малороссии, если почувствую, что буду к этому годен».
Но и на этом Кулиш не останавливается. Свою программу он дополняет, планируя издать огромный труд под общим названием «Жизнь малороссийского народа». Если бы это удалось, «это была бы достойная жертва любви к родине и важная услуга Малороссии, России, всему Славянскому миру и всем ученым вообще». Реализовать задуманное П. Кулиш рассчитывал за 10 — 15 лет, хорошо понимая масштабы и значение будущей работы.
В Александровке он написал поэму «Украйна» — по крайней мере, большую ее часть («писал я ее у него (Грабовского. — В.П. ) над кабинетом», — сообщит П. Кулиш в письме Ю.-И. Крашевскому). Свою «Украйну» он задумывал как эпос наподобие Гомеровского, как историю народа, составленную из исторических дум и песен. Если же какой-то фрагмент этой истории оказывался неотраженным в народной поэзии, Кулиш сам заполнял пробел стилизацией под думу.
В это же время продолжается работа над замыслом «Черной рады». Незадолго до приезда в Александровку (27 апреля 1843 г.) Кулиш сообщал М. Юзефовичу, что у него появилась «идея нового романа». «Это явление неожиданно озарило для меня художественным колоритом несколько страниц нашей истории». В александровской «лаборатории» этот замысел постепенно оформлялся, обрастал материалом, уточнялся в деталях. Поэтому уже в декабре 1843 г. П. Кулиш мог радостно «отчитаться» Юзефовичу: «Я теперь работаю беспрестанно и, кажется, с успехом. План романа давно у меня готов, эпоха представляется уже ясно воображению со своим особенным колоритом, и характеры уже заданы…» Будущая «Черная рада» должна была сначала называться по-другому: «Сотник Шрамко и его сыновья». Неизвестно, брался ли Кулиш за написание произведения, живя в доме М. Грабовского, но несомненно, что именно здесь он мог повторить за любимым своим Пушкиным: «И даль свободного романа/ Я сквозь магический кристалл/ Еще не ясно прозирал…»
В Александровке П. Кулиш чувствовал себя так легко, так хорошо ему здесь работалось, что сюда он приезжал и следующим летом…
«ДОМ, ИЗ КОТОРОГО ВЫЙДУТ ЖИВОПИСНЫЕ РАЗВАЛИНЫ…»
В третий раз (и в последний) побывал П. Кулиш в Александровке аж в 1856 г. Произошло это уже после разгрома Кирилло-Мефодиевского братства и после четырех лет тульской ссылки Кулиша… 12 июня 1856 г. он писал в письме М. Грабовскому о своем намерении снова погостить у него: «Тоді я, вхопивши оберемок книжок, махну на Вкраїну і зараз, не гаявши часу, прибуду до Вас в Олександрівку, і попривожу Вам тацю і кошик із того мельхіору і всяку всячину, которої бажали…» И Кулиш таки сдержал слово. В сентябре 1856-го он приехал в «Абботсфорд». Из хутора Баивщина, дождавшись там художника Льва Жемчужникова, Кулиш отправился в Черкассы, а оттуда в Александровку. Гостей, таким образом, на этот раз было двое: Кулиш и Жемчужников.
М. Грабовский удивил и даже огорчил П. Кулиша, поскольку литературную деятельность принес в жертву хозяйствованию, разумеется — совершенно неудачному. 11 сентября 1856 г. Кулиш писал из Александровки: «Покинул (Грабовский. — В.П. ) за домашними хлопотами книги и сделался паном. Горько нам на его смотреть, и сам он в своем хозяйстве печалится. Если бы Господь уберег меня от такого упадка, чтобы окончить свое дело так, как начал, и не свестись не знать на что!.. А как подумаю о всяких своих тревогах, то и у меня волос на голове встает, что бы действительно не упасть сердцем и духом. Недосуг человеку и бороться, когда встает перед ним ежедневно супротивная волна!» «Супротивная волна» — это, очевидно, конфликтные отношения М. Грабовского с соотечественниками, с молодым поколением поляков, которые к его панславизму и царистским ориентациям относились резко критически.
Кулиш тоже иронизировал над стареющим обитателем каменного дома на берегу Тясмина, однако иронизировал грустно. «Был я у Грабовского, который променял литературу на сахароварство и строит дом, из которого выйдут очень живописные развалины», — писал он П. Плетневу 4 декабря 1856 г. и как в воду глядел: от готического дома не осталось и следа, и даже место, где он стоял, в Александровке никто теперь показать не берется. П. Кулиш не мог знать, что в 1862 г., после подавления еще одного восстания поляков, князь Велепольский позовет Михала Грабовского в Варшаву, и тот займет достойное место в «комиссии народного образования и вероисповедания». Грабовский покинет Александровку, чтобы уже никогда не возвращаться в свое имение…
След, который он оставил в сознании и душе молодого Кулиша, был весьма значительным. Как литературный критик, М. Грабовский был идеологом славянского романтизма, ориентируя писателей-современников на традиции народного творчества. Критерии, с которыми он подходил к художественному произведению, предусматривали наличие мотивов из народной жизни, близость к народным рассказам. Это было именно то, что исповедовал в своей литературной практике и молодой Кулиш.
Взгляды М. Грабовского на литературу много значили для П. Кулиша как писателя и критика. То, к чему он стремился полустихийно, теперь обретало четкие формулировки, выстраивалось в систему. И идея самобытности украинской литературы, и необходимость ее ориентации на фольклорные основы и «поэзию старины», и принцип исторической и этнографической достоверности художественного произведения. Навстречу этим взглядам Кулиш шел легко, потому что они отвечали его собственным внутренним установкам и догадкам. Сложнее было Кулишу-историку. Общение с Грабовским вынуждало его серьезно переосмысливать сложную историю польско-украинских отношений. Если в Александровку П. Кулиш прибыл с «костомаровско-шевченковскими» представлениями о казатчине и гайдамаках, то в «Абботсфорде» ему пришлось столкнуться с неожиданными для себя суждениями о событиях ХVII-ХVIII столетий.
Грабовский считал, что во времена Колиивщины у украинцев возобладало «течение варваризма», что гайдаматчина была шагом назад, проявлением стихии и разбойничества «низовиков». Полякам же М. Грабовский отводил миссию культуртрегерства, разделяя мнение, высказанное одним из его приятелей: «Украина ваша, а мы культурные пришельцы». Во временах былых он выделял фигуру Конашевича- Сагайдачного, который олицетворял культурную силу, украинскую аристократию, находившую понимание с поляками и, в целом, правильно строившую систему славянских отношений. Исследователь жизни и творчества П. Кулиша Виктор Петров небезосновательно считал, что «идею польско- украинского единения, всегда привлекавшую Кулиша, взлелеял он, надо думать, общаясь с Грабовским».
У Кулиша, который в 1843 г. еще склонялся к героизации гайдаматчины, взгляды Грабовского вызвали желание полемизировать. Однако позже он и сам стал жестким судьей казатчины и Колиивщины и проповедником культурничества. Такой подход ляжет, в частности, в основу его трехтомного труда «История воссоединения Руси», который в 1870-е гг. серьезно обострит конфликт Кулиша с украинской общественностью. Таким образом, два александровских лета (1843 — 1844) знаменовали начало того «нового» Кулиша, который впоследствии будет шокировать соотечественников своими категорическими суждениями о разбойничестве казаков и гайдамаков, об украинских летописях и «рапсодиях кобзарей», которые он назовет подделками, о «пьяной музе» Тараса Шевченко… Несомненно, что на подобной «смене вех» сказалось влияние М. Грабовского. Недаром же после того, как П. Кулиш вернулся в Киев, его друзья замечали, что он «ополячился». Едва ли не в первую очередь это означало, что на украинскую историю Кулиш начинал смотреть польскими глазами.
Как бы там ни было, следует принять во внимание тот красноречивый итог, который подвел сам П. Кулиш: «Уединенные дни в Александровке, долговременное изучение там Гомера, вместе с изучением народной поэзии, наконец знакомство мое с Грабовским, поставили меня так крепко на ноги, что меня не может увлечь никакой поток болезненных литературных явлений…» Пантелеймон Кулиш брался реализовывать свою грандиозную жизненную программу…
Выпуск газеты №:
№236, (2002)Section
История и Я





