Невозможность детектива
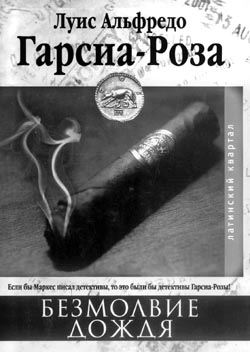
Бразилия для большинства — это футбол, карнавал и Коэльо. Московское издательство «Эксмо» попробовало подкрасить этот рефлективный триколор: выпустило детектив бразильца Гарсиа-Розы.
Ну да, определенные экзотические специи в этой доселе неведомой нам литературной пище — бразильский детектив — чувствуются. Но не настолько, чтобы говорить о новой прописке жанра. Скорее, книга свидетельствует о его, жанра, глобализации. И под таким углом зрения удобно поразмышлять, почему эта разновидность глобализации пока не затрагивает Украину.
Сегодня детектив уже не может показаться читателю обольстительно голой схемой-головоломкой. Без отступов «за жисть» выходить на этот рынок сегодня неприлично. Детективщик-профи отдает себе отчет, что соревноваться тут с мастерами социально-психологической драмы не стоит, и откровенно, с иронией банализирует рефлексии своих героев. Например Гарсиа-Роза, у которого один из персонажей «застал меня за поисками взаимосвязи между быстрым питанием и быстротечностью жизни». Такие философские адаптации — вежливость писателя на рандеву с массовым потребителем. Потому что избыток серьезности будет восприниматься этим потребителем как заносчивость и напыщенность и будет наказываться некупленной книжкой.
Но так же детективный автор, цель которого — попасть в список бестселлеров (а Гарсиа-Роза у себя в Бразилии таки попал), не может пренебречь и теми проблемными мыслительными вершинами, которых достигла современная серьезная литература, а современные критики сделали их интеллектуально модными. Это также реверанс перед массовым читателем, который желает быть «в курсе». Для иллюстративного упрощения возьмем, к примеру, француза Уэльбека, который в своих романах спрессовал сегодняшние интеллектуальные «фишки» чуть ли не до публицистической плотности. А именно: стабильный и повсеместный комфорт изолирует человека от лишних контактов, атрофируются «мышцы» общения; приходит в упадок иммунитет к неожиданностям, которые (даже приятные) вдруг становятся угрозой всему способу бытия и из-за этой экзистенциальной вялости человек в конечном счете теряет вкус к самой жизни — в том числе и к основному инстинкту.
Все это есть и у Гарсиа-Розы. Главный герой — инспектор Эспиноза — несколько лет как разведен. Во время расследования он сталкивается с двумя привлекательными женщинами и вдруг осознает, что разучился ухаживать ( «я лишился своего прежнего словаря, а новый еще не приобрел. Результат женитьбы» ). Чисто Уэльбек — как и беспомощное одиночество Эспинозы: «Некоторых дома встречает жена, дети или радостно виляющий хвостом пес. Меня — автоответчик» .
НЕВОЗМОЖНОСТЬ №1: МИСТИКА
На предыдущей фразе возникают интересные украинские ассоциации. Классический пример с «Доктором Серафикусом» В. Домонтовича (которого вполне можно считать прямым предшественником Уэльбека) не будем трогать именно из-за классичности. Возьмем последний роман Шкляра «Кров кажана», написанный по детективному лекалу. По фабуле здесь, конечно, ищут физического убийцу, а по сюжету — убийцу метафизического. И оружие у него то же самое, Уэльбековское: «Тобі нема куди поспішати. Тебе ніхто і ніде не жде. Але ти про це ще не знаєш... Це одне з найвишуканіших покарань для людини — довести їй, що поспішати немає куди, бо її ніде і ніхто не жде» .
При формальной тождественности речь здесь идет, по сути дела, о прямо противоположных вещах. Индивидуальное одиночество у Уэльбека или Гарсиа-Розы — это пассивный выбор. Существует система общественных координат настолько автоматизированная, что ее как бы и нет. Она самодостаточна, и потому ей не нужно напоминать о себе каждому отдельному индивидууму. Когда же на этом индивидуальном уровне возникает сбой, сразу срабатывает соответствующая «служба 911» — и персонажи Уэльбека все- таки находят спасение, которое их просто латентно ждало.
Если же этот сбой имеет криминальный характер, возникает детектив. Потому что детектив — это диктатура закона. Когда же закон настолько слаб, что неспособен диктовать всем одинаково, — детектив как литературный жанр просто невозможен. Например у Шкляра, где начальная детективная форма проваливается в трясину неопределенности и необязательности и естественно мутирует там в жанр мистического триллера. Шклярово «тебе ніхто й ніде не чекає» — это не метафорическое Уэльбековское уединение. Это буквально: жизнь в мире вне общественного консенсуса, который обычно именуют законом. Как там у Куркова: «— Ты что-то не в себя.
— Да, я ни в себя, ни в тебя... Нигде... Грустно чего-то».
На политологический язык этот микродиалог переводится так: почти полная украинская пустота на месте, где должно было бы быть тело гражданского общества, является питательным бульоном для диктатуры властного безразличия, где места человеку нет, а есть место только роботу-исполнителю. Поэтому имеем какое-то квазитрадиционалистское общество, которое в своей активной части руководствуется «понятиями», а в пассивной — именно мистикой и демонологией. И такое состояние неотвратимо диктует писателям правила игры. Как бы Василию Шкляру ни хотелось написать классический детектив, украинские реалии ведут его перо в сторону мистики. Действительно, какой еще детектив может быть, когда национальным «бермудским треугольником» выступает Тараща? Только — триллер, жанр по определению сугубо пессимистический (в отличие от обычно оптимистического детективного жанра). Даже мистические ремни безопасности не спасают героев Шкляра от безысходности — «пекло мого життя наздогнало мене і тут» . Недаром, читая «Кров кажана» (и «Ключ»), неоднократно вспоминаешь хрестоматийный «Полет над гнездом кукушки» Кена Кизи.
НЕВОЗМОЖНОСТЬ №2: АБСУРД
Другой пример метаморфоз классического детектива от столкновения с украинской реальностью демонстрирует неслучайно упомянутый выше Андрей Курков. На Западе, где его популярность значительно выше отечественной, никто не называет Куркова детективщиком. У нас же, где рецензенты редко читают больше ста первых страниц произведения, — преимущественно так и зовут. Все просто: Курков, как и Шкляр, в начале использует инструментарий детектива, но потом «сопротивление материала» подменяет жанры. Есть интрига расследования, но нет борьбы (а энергетический источник детектива — именно борьба) за выявление правды. Герой Куркова — всегда наблюдатель, даже в книге о военном наемнике («Улюблена пісня космополіта»). Его жизненная философия: «Кто не боролся, тот и не проиграл» . Вся его активность ограничивается желанием «выкупить себя из враждебных обстоятельств» , вернуть потерянное собственное пространство — несмотря на то, что вплоть до отчаяния «не хотелось оборачиваться, хотелось стоять ко всему происходящему спиной. Так, чтобы все осталось неувиденным, происшедшим где-то вне его жизни, вне его самого» .
А за спиной у героя Куркова — причудливый микс, где встречаем пустынную кочевницу с дипломом врача и стильную горожанку, которая ворует сперму любовников; официальные некрологи, опубликованные за день до убийства покойников, и чуть ли не феллиниевский рыбзавод, который плывет в никуда; милостыню бутербродами с икрой и водку как предмет туалета, как утреннюю зарядку. «Все это было в высшей степени абсурдным, но абсурд был удивительно реальным, он здесь просто командовал жизнью».
Творчество Куркова — это история первичного накопления капиталов в новой Украине. «Время было наполнено напряжением и убийствами... Человеку, одолжившему у кого-то слишком много денег, дешевле убить кредитора, чем вернуть эти деньги» (у Катериничева это звучит так: «Когда занимаешься бизнесом, мысль о людях, как таковых, является непозволительной роскошью... Крови будет много, но без крови денег не бывает. Настоящих денег, таких что дают не просто независимость, но власть» ). История эта абсурдна даже тем, что детскими мировыми болезнями конца ХIХ века болеет взрослый общественный организм конца ХХ. Классический детектив, натолкнувшись на этот отечественный абсурд, поворачивает под пером Куркова в сторону Кафки. А у Катериничева превращается в боевик.
НЕВОЗМОЖНОСТЬ №3: ВОЙНА
Есть у Куркова внешне невзрачная фраза: «Всего несколько шагов в неверном направлении — и все!» . Это — бытие на минном поле; не так даже отсутствие каких-либо законов, как угрожающе скрытое множество индивидуальных правил силы. «Вы же прекрасно знаете наши правила: можешь — делай... Выбери себе жизнь и — живи!» — так формулирует кредо силы персонаж Катериничева. Мир, якобы формально очерченный сетью властных институтов и их продуктом — законами, на самом деле представляет собой воплощенную политику дедовщины: «В сложившейся ситуации виноват окажется не тот, кто виноват, а тот, кого поймали» (Я. Валетов).
При таких обстоятельствах детектив (как диктатура закона) снова-таки не возможен. Речь идет уже о войне как отсутствии любых гарантий. А жанр войны — боевик. Где правила (и законы) устанавливает именно сила. «Оказывается, есть мир, где для того чтобы выжить, надо уметь убивать... Нужно выжить. Она сыграет по своим правилам, делая вид, что играет по предложенным» (П. Катериничев). Мораль выносится за скобки, ее место занимает ситуативная целесообразность, инстинкт выживания. «Какая мораль может быть у инструмента? Бывает ли аморальным автомат Калашникова... Не жалей ни о чем. Это были нелюди. Вурдалаки. Убить такого — хороший поступок» (Я. Валетов).
Итак, наиболее распространенной реинкарнацией классического детектива в Украине является боевик, робингудиада. Герой — рыцарь без страха и упрека ( «боятся можно, когда есть шанс остаться живым» — А. Курков), который борется с ветряными мельницами беззакония. Поле боя для него — вся вертикаль общества. От самого верха (размышления персонажа Данченко о преступнике-кукольнике: «По моему разумению, это либо кто-то из силовых министров, либо из ближайшего окружения президента» ), далее до выявления виноватых «у колі шахраїв, а по-вченому — оліґархів» (О. Чорногуз) и до низа — «один сельский революционер, за правдой по своей наивности приехавший, районное начальство разоблачать» (А. Турчинов).
На этой теневой стороне Украины — полное отражение нормальной общественной структуры. «Да, я не король. Но — герцог» , — говорит о себе персонаж Катериничева, «отмороженный интеллектуал» . За совсем небольшим исключением, все остальные его негативные действующие лица — интеллигенты со знанием Окуджавы, Пушкина, Блока и даже Андрея Белого (а иногда и Ницше, Гайдеггера, Сенеки, Святого Августина, Тацита). Киллеры со знанием «серебряного века», цитирующие Шекспира и неканонические тексты Святого Писания, — круто?
Страшно. Еще и потому, что среди украинских литературных Робингудов никто такого культурного уровня не демонстрирует. А у Гарсиа-Розы, например, инспектор Эспиноза — большой книголюб, завсегдатай букинистических магазинов. И одна из двух (на весь роман) мастерски-целомудренно выписанных бразильцем эротических сцен разворачивается под музыку Грига (а не под «Восемнадцать мне уже...», как в наших литотражениях).
Интересно сравнить и круг тех, кто противостоит Эспинозе (в отличие от выше очерченного отечественного круга тотального криминала): «Уходя, я размышлял над парадоксом — на информацию, полученную от уличных картежников, я полагался больше, чем на сведения таких же, как я, полицейских» . Да, это стандарт: нормальный полицейский разоблачает плохих полицейских. Но разоблачает — всегда. Согласно закону диктатуры закона. В конце остается разве что печально вздохнуть на общественное опасение к твоей профессии: «Некоторые могут преодолеть любые барьеры — расовые, религиозные, финансовые, — но полицейский есть полицейский. И я думаю, они правы» . В Украине же такое философствование и представить себе невозможно: «Мент бывшим не бывает» и — «залишимо філософію для слабких» (Я. Валетов). У нас «ум ценят немногие, а силу — все» (Е. Данченко).
НЕВОЗМОЖНОСТЬ №4: КАРНАВАЛ
Кроме Катериничева и Валетова яркими репрезентантами жанра боевика являются Кононович и Кожелянко. У двух последних, кстати, ощутимы и мистические наслоения. Их Робингуды — не Джеймсы Бонды, а, скорее, запорожцы-колдуны. Однако мистика казачества — тема отдельного экскурса. Я же, в заключение, скажу о единственной, по моему мнению, «дырке» в глухой стене невозможности украинского детектива. Это — женская проза. «Место, где спрячет мужчина, можно вычислить логически. А место, где спрячет женщина, логически невычислимо... Если в каком-нибудь деле участвует женщина, то рано или поздно это дело превращается в цирк» , — пишет Елена Данченко. Подобное видим и в густо приправленных черным юмором детективоподобных произведениях Медниковой, Денисенко, Кушнеровой. Возможно потому, что беззаконие — пространство карнавала? К этому же выводу подталкивают и метаморфозы творчества Олега Чорногуза, который в последнем романе круто взялся за детективизацию юмора и симптоматически поменял пол своему хрестоматийному трикстеру Евграфу Сидалковскому.
Что же в результате? Турчинов, чей триллер «Иллюзия страха» имеет больше всего рудиментов классического детектива (за счет перенесения «действия» в пространство чистого сознания), предлагает читателям местную дзен-анестезию: «Примите для начала такое правило: все, что есть в вашей жизни хорошее, доброе, светлое — это реальность, а все плохое, страшное, злое — бред и галлюцинация» . По большому счету, это оппозиция «литература/жизнь». «Что такое, по-вашему, высокая литература? Просто буковки да метафоры? Это же и есть средство передачи духовного тока, как бы проводник! Захотелось зарядиться мрачной и глубокой энергией — открыли книжку Достоевского. Захотели очистится и побыть в просветленном состоянии — берете в руки прозу Тургенева» , — рассуждает персонаж Куркова, создавая в мечтах себе «Швейцарию души». Но, в отличие от Турчинова, не ограничивает своего героя только виртуальными рекомендациями: «Вы могли остаться человеком или превратиться в функцию. Вы выбрали второе, потому что за первое не платят».
В этом последнем — едва ли не главная системная проблема современного украинского общества. Массовый гражданин таки выбирает виртуальное обезболивающее — эйфорию боевика, где появляется герой, который решил остаться человеком и защитит тебя вместо тебя самого: «В нем проснулся воин. Которому еще вчера не за кого было сражаться. Которому незачем было побеждать» (П. Катериничев).
Итак, современный украинский боевик — как морфий, который снимает болевой шок реального гражданина. Литературный процесс ставит весьма тревожный диагноз стране, в которой невозможен классический детектив.
Если бы политики начали читать популярную литературу вместо того чтобы разгадывать кроссворды в бульварной прессе...
Соавторы:
Луис Альфредо ГАРСИА-РОЗА. Безмолвие дождя.—
Москва: Эксмо; Яуза, 2006.
Василь ШКЛЯР. Кров кажана // Сучасність, 2002,
№12; 2003, №1.
Андрей КУРКОВ. Закон улитки. — Х.: Фолио, 2002.
Андрей КУРКОВ. Добрый ангел смерти. — К.: А.С.К., 2000.
Петр КАТЕРИНИЧЕВ.Тропа барса. В 2 т. — Москва:
Центрполиграф, 2002.
Петр КАТЕРИНИЧЕВ. Любовь и доблесть. — К.: А.С.К., 2004.
Ян ВАЛЕТОВ. Левый берег Стикса. — К.: Альтерпрес, 2005.
Ян ВАЛЕТОВ.Прицільна дальність. — К.: Факт, 2006.
Елена ДАНЧЕНКО.Глупая история. — Х.: Книжный
«Клуб Семейного Досуга», 2002.
Олег ЧОРНОГУЗ.Дари пігмеїів. — К.: ВУС, 2005.
Александр ТУРЧИНОВ. Иллюзия страха. — К.:
Криниця, 2004.
Выпуск газеты №:
№124, (2006)Section
Культура





