Пчелы Бойса не гудут?
В галерее ЦСИ (Сороса) проходит выставка произведений выдающегося немецкого художника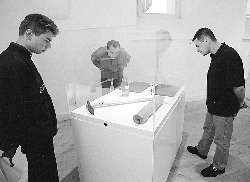
Никто из писавших о Йозефе Бойсе не избежал хотя бы упоминания о загадочной истории, случившейся в 1943 году с молодым авиатором Люфтваффе. «Последняя моя мысль была — слишком поздно прыгать, слишком поздно открывать парашют... Мой приятель запутался в стропах и при падении был разорван на части. Я пробил лобовое стекло, что меня, собственно, и спасло, несмотря на повреждения головы и челюсти. Потом самолет перевернулся, и я оказался похоронен под снегом». Было это в Крыму, а выходили Бойса местные татары. «Помню... ощущение войлока, из которого было сделано их жилье и пронзительный запах сыра, сала и молока. Они обмазали меня жиром, чтобы я мог согреться, а потом закутали в войлок, чтобы тепло не исчезало». И хотя кто-то из историков считает этот эпизод из его биографии мистификацией (сохранилось фото, где Бойс позирует перед корпусом мало поврежденного U-87), для логики искусства это не представляется существенным. Ведь именно тогда были найдены и, возможно, пропитаны составные будущего индивидуального мифа — жир и войлок, к которым добавились мед и фетр. Их художник вводил в свои объекты и рисунки, многие из которых представлены в теперешней экспозиции, сам размер которой является подлинно уникальным.
«Бойс в Киеве» — первый на Украине доподлинный показ классики современного искусства Запада. (Прошлогодняя выставка Макса Эрнста охватывала прежде всего довоенный период его творчества, а Кункелис и Генри Мур демонстрировались все-таки эпизодически). О нем было заявлено давно, и его долго ждали с той энергией ожидания, которая свойственна именно нашим художникам, для которых мессианство — в себе или в другом — является желаемым и одобряемым. Тем более, что Бойса уже при жизни называли Шаманом (а еще) новым Вагнером и Рыцарем Грааля). И то со знаком «плюс», которого сам Бойс никогда «не жалел» для собственных произведений — и щедро ставил коричневую метку на кусках фетра, стеклянных пластинках (негатив акции «покажи свою рану»), склянках, калийных батареях и тому подобном. Иногда плюс совпадал с крестом, а тот, в свою очередь — со штепсельной вилкой или снарядом для метания (странные симбиозы, провозглашенные в двух бронзовых рельефах 1952 г.). К тому же автор не стеснялся везде проставлять свое имя — в отличие от его предшественника в создании — в начале ХХ ст. — «рэди мейдов» (готовых вещей, экспонирующихся как произведения искусства) — Марселя Дюшана, тот спрятался за трансвеститным псевдонимом «Рроз Селяви». Итак, Бойс Плюс?
Но киевское художественное сообщество встретило его с оторопью, смешанной с вежливым уважением. Для многих естественной реакцией был шок. Иные удивлялись: простая коробка... покрашенная с боков... охапки марли, запихнутые в каждый из углов... вот и все? (объект 1964 г.). С одной стороны, мало кто бывает таким неблагодарным как художник (далее мы попробуем доказать, что отечественное искусство все-таки «не обошлось» без находок Бойса), с другой, мало кто настолько беспристрастен. Если произведение прекрасного нужно нам для сладкого медитирования, нам лучше сознательно перейти в зал ХIХ века (какого- либо из существующих музеев). Дистанционирование от принципов «старой эстетики» — одно из начальных условий понимания искусства современного. Бойс непонятный, Бойс сложный, Бойс — Минус? Но украинский фотомастер Юрий Косин уверяет: в Германии Бойс — действительно «народный художник», доступный восприятию профессора и уборщицы. Без сомнения, большая роль в этом бессмертных традиций экспрессионизма, поэзии деформаций и осмысленного обезображивания. К тому же, и в модернизме ХХ ст. я выделил бы две ветви — французскую и немецкую. Первая, не порывающая до конца с традициями искусства предыдущей эпохи, находит свое воплощение в искусстве сюрреализма, который у нас нынче ассимилируется маскультом. Вторая ветвь расцветает в творчестве Бойса, который меняет экспрессионистский «минус» на шаманский, индивидуалистический «плюс». Но было бы чрезмерной поспешностью объявить ее для нас тотально чужой — в конце концов славянин Кандинский признавался Бойсом одним из своих духовных родителей. Думаю, здесь фатальное следствие антипривычки — мы слишком привыкли к тому, что искусство должно быть «красиво». А Бойс предлагает: заметки из дневника, отрывки замыслов, лабораторию еретического поиска.
В последнюю очередь он обеспокоен выразительностью штриха. (А на выставке, заметим, доминирует графика — верхушка бойсовского «айсберга».) Временами его рисунки напоминают чертежные опусы начинающего, где стайки пунктирных черточек граничат с самовольными вихрями и прихотливыми кучеряшками. А в его «НЛО» (1958 г. — первая волна сенсации!) — то ли очертания архаичной колесницы, то ли зарисовка слесарной болванки. Уверен, что последняя ассоциация была бы воспринята Бойсом без какой-либо обиды: он был художником, у которого маэстрия координировалась и дополнялась рукотворностью и ремесленничеством в высшем понимании этого слова. Поэтому не удивляешься, набредая на выставке на мотыгу, собственноручно сделанную им, с рукояткой из маслинового дерева; нередко злоупотребляя грифом «Б.Н.» (без названия) — ей он подарил имя La Zappa. А в 25-минутном видеофильме 1970 года сам Бойс появляется ненадолго, на несколько минут, чтобы забить гвозди в доски подрамника, а потом исчезнуть из кадра, который, неподвижный, продолжает мозолить зрительский глаз.
Но владея ремесленнической хваткостью, Бойс не по-ремесленнически фантазийный, парадоксальный, вызывающий. Время тому способствовало: бурные 60-е, инерция их в 70-ых, это сегодня художник должен из кожи лезть, чтобы удивить хотя бы своих поклонников. Когда-то было не так. Как древний ритуал прочитывается дюссельдорфская акция Бойса 1965 года. «Как объяснить картины мертвому зайцу» (Бойс сам называл себя Зайцем, считая того не обычным олицетворением трусости, а существом, тайно связанным с родом, женщиной, химическими процессами крови). Автор, полив голову медом, с заячьим чучелом в руках подходил к витрине и будто бы шепотом рассказывал своему двойнику что-то о своем, творческом. Отдаленные ответвления этого старого действа замечаем на киевской выставке: силуэт зайца на 85-сантиметровой базальтовой глыбе («Заячий камень», 1982 г.), а также — бутылка, запечатанная пчелиным воском (в объекте «Кельтское», 1971 г.), и серии рисунков из пчелиной жизни (1953-55 гг.), Пчела-Бойс полон мудрости и меда? Или пчелы Бойса не гудут?
Гудут, еще и как гудут. По последним слухам, Анатоль Федирко готовит акцию, посвященную Бойсу. Бывший киевлянин Олег Кулик организовал в США перфоманс просто-таки «по следам Бойса» (заменив койота собакой в собственном лице). Бесспорно, поиски Бойса учитывает и харьковский график Павел Маков. Украинский постмодерн клялся именем Бойса, но по-настоящему впитал опыт «новых диких», в ряды которых когда-то вступил их старший коллега; вообще-то наши «пошли иным путем». И к кому, как не к нам, обращены слова Бойса (выдернутые из контекста беседы четырех европейских художников): «Итак, давайте строить тот собор!» Не майские жуки, а пчелы Бойса над вишнями гудут.






