«По отношению общества к современному искусству можно судить о его свободе»
Художник Виктор Сидоренко о музее, критиках и коллекционерах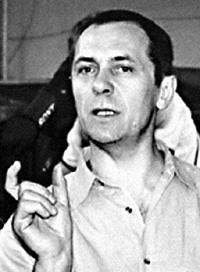
Сегодня Виктор Сидоренко является одним из самых активных киевских художников. Он руководит Институтом проблем современного искусства, созданным по его инициативе. Собственно, именно об этом, еще не достаточно известном для широкого круга зрителей искусстве, о биеннале, о ситуации на арт-рынке, других важных вещах мы и поговорили.
— Как вы оцениваете второй выход украинского искусства на Венецианскую биеннале?
— В данном случае мне как автору тяжело быть объективным. Я могу оценивать лишь то, что я сделал.
— Хорошо, давайте переставим акценты: вы как автор довольны воплощением и восприятием вашего проекта?
— Тем, как было сделано, — доволен, как выставлено, — нет. Есть причина: мы только в феврале начали искать помещение, когда свободных уже не было. Нам просто повезло, что мы вообще нашли зал. Я хотел бы, чтобы решение по очередному проекту было принято, как и во всех странах, за год до биеннале. По крайней мере, у назначенного комиссара достаточно времени для качественного решения всех организационных вопросов: проведение конкурса, выбор проекта, куратора, поиск подходящего помещения и других проблем.
— Вернемся к вашей работе...
— Мы получили множество положительных отзывов как от профессионалов, так и от многочисленных зрителей. Но, к сожалению, нам не удалось разместить проект как это необходимо было для цельного его восприятия. Экспозиция находилась на разных этажах и поэтому творческие идеи были воплощены не в полной мере. Но, несмотря на это, проект был позитивно отмечен в мировой прессе, например, в «Нью-Йорк Таймс», московском журнале «Галерея»; мы получили предложения от различных музеев показать «Жернова времени». Уже представили его в музее современного искусства в Денвере, сейчас он демонстрируется в музее «KIAZMA» в Хельсинки до 31 мая. Это очень известный музей современного искусства. На данный момент есть много других предложений, но, к сожалению, нет необходимых средств и времени, так как я работаю над другими проектами. А, возвращаясь к вопросу представления Украины на Венецианской биеннале, конечно, хотелось бы иметь национальный павильон, подобно большинству европейских стран, для презентации современного украинского искусства.
— Очевидно, сама политика в отношении биеннале должна стать более целенаправленной.
— Так будет, когда в Министерстве культуры появятся люди, занимающиеся современным искусством. В других странах над подготовкой к биеннале работают стабильно действующие структуры, такие как музеи современного искусства, центры или институты современного искусства, при этом они в основном бюджетные. К примеру, в России «РОСИЗО» при Министерстве культуры сейчас занимается подготовкой к архитектурной биеннале в Венеции. Я тоже пытался организовать участие украинских архитекторов на этом форуме, но не получил поддержки ни от государственных инстанций, ни от спонсоров. А Москва объявила конкурс, и они в своем павильоне в Венеции делают мастерскую для 100 молодых российских архитекторов, которые в течение двух месяцев пройдут там недельную стажировку. Это прекрасно! Учитывая не лучшее состояние нашей архитектурной практики, обмен опытом с европейскими архитекторами не помешал бы.
— Проблема, очевидно, не только в помещении…
— Я понял по своему проекту, который показал недавно в Национальном музее, что у современного искусства в Украине на данный момент пока что немного почитателей, люди не готовы к его восприятию. Они в основном воспитаны на XIX столетии. Действительно, если взять все наши учебники, начиная с азбуки, — это Репин, Шишкин, передвижники; Серов — уже почти авангард, пропущен целый пласт истории искусства ХХ в., а по отношению общества к современному искусству можно судить о его свободе. Люди приходят в музей и возмущаются: хотели отдохнуть, увидеть прекрасные пейзажи, а видим черт-те что, какие-то лысые солдаты, снимки с ранеными. Это лишний раз подчеркивает, что я был концептуально прав — люди в общем-то одиноки и равнодушны друг к другу, но вынуждены жить вместе...
Книга отзывов — это своеобразный опрос общественного мнения, который красноречиво это подтверждает.
— С чего нужно начать?
— С образования. В том же музее современного искусства в Хельсинки, в аналогичных музеях в Ганновере, Нюрнберге, да и вообще, во многих европейских городах полно молодежи, детей, которые с ранних лет имеют возможность видеть contemporary art, поэтому начинают понимать и воспринимать это искусство. Хотите посмотреть классическое искусство — идите в соответствующий музей.
— Давайте тогда поговорим о контексте. Как вы оцениваете место Украины в международном пространстве современного искусства?
— Если говорить об авторах — то тут достаточно людей, которые способны достойно представлять страну. Я говорю о том, что есть авторы, но нет механизмов, нет возможностей, нет институций, которые могут продвигать это искусство. У нас каждый художник сам по себе, галереи чаще всего не заинтересованы в этом. Они занимаются коммерцией, и современное искусство интересует их, если его можно продать, что естественно для галерей. Но искусство не движется только продажей. Даже если мы опять обратимся к России — этот пример нам ближе, — у них эти институции есть, они отслеживают биеннале не только в Венеции, но и в Сан-Пауло, в Сиднее, в Стамбуле. Есть целая система спонсоров, организаций, которые участвуют в этом процессе. Государство дважды уже профинансировало наше участие в Венецианской биеннале. Но есть и другие акции. Пусть государственное финансирование будет не стопроцентным, ведь определенную часть работы художники могут производить и за счет спонсорских денег. Но чаще всего и для нас, и для музыкантов, кинематографистов основным препятствием оказываются такие элементарные вещи как билеты, проживание, доставка работ — именно это и не дает нам участвовать. Необходимы структуры, которые бы занимались этим. У нас сейчас вроде достаточно много организаций, которые пытаются что-то делать, например, Национальный союз художников Украины, Ассоциация деятелей современного искусства, галерея «Совиарт», «Ателье Карась», галерея «L-Art», галерея Гельмана и некоторые другие, но это в основном общественные или коммерческие организации.
— А Институт проблем современного искусства?
— Это больше научное учреждение, и здесь, конечно, сложно сочетать исследовательскую деятельность с практической. Многие думают, что Институт снимает проблему организации всего того, о чем мы говорили. Но у него есть еще и другая задача — изучение. Нужно учитывать, что то, чем мы занимаемся, делается в Украине впервые и у нас большие планы как в проведении фундаментальных научных исследований, так и в организации масштабных акций, проектов.
— В таком случае, что нужно, чтобы процесс пошел, как говорится?
— Первое — это Музей современного искусства, которого у нас нет; второе — критики и наука об этом предмете, что только появляется, большинство пока занимается традицией; и третье — коллекционеры и люди, способные финансировать искусство. Если не будет этих трех составляющих — не будет по-настоящему профессионального искусства. Все где-то в зачаточном состоянии. Хорошо, если люди в частном порядке берутся за создание музеев и т. п. Но в целом эта система заработает, когда будут функционировать частные и государственные музеи современного искусства, а у нас пока нет ни одного, когда будут активно действовать центры и институты современного искусства, когда появится соответствующая законодательная база для возникновения заинтересованности меценатов, коллекционеров, спонсоров.
— А как вы смотрите в этом смысле на нашу художественную будущность?
— Хотелось бы смотреть с оптимизмом, но подтверждений пока нет.
— А как же музей современного искусства, который сейчас затевают?
— Я не думаю, что этот музей должен быть частным. Второй момент — сейчас пытаются привязать современное искусство к Национальному музею. Я считаю, что у нас сейчас есть возможность отдельно открыть государственный Музей современного искусства в Украине. Возьмите Париж: в Лувре находятся произведения периода вплоть до импрессионизма, импрессионисты представлены в музее д’Орсэ, а Центр Жоржа Помпиду занимается новейшими течениями.
— Чем же тогда значим подобный музей для государства?
— Нужно воспринимать его как Оперный театр. Мы можем быть без Национальной оперы? Нет. Без театра стыдно быть даже областному центру, не то что столице. И, мне кажется, так же стыдно быть без государственного музея современного искусства. Я знаю, что в Дирекции выставок Министерства культуры есть два набора работ: картины 20-летней давности и «народное искусство», именно эти работы и представляют нашу страну на государственном уровне за рубежом. И такое ощущение, что у нас тут ничего не происходит: упомянутая коллекция Министерства, не распаковываясь, из одной страны едет в другую. Народное искусство вне специальных фольклорных выставок экспонируют редко. А мы продолжаем выставлять. В данный момент у нас проходят Дни культуры Франции и Год Польши в Украине. Открылось несколько выставок и это все выставки современного искусства, работы последних лет. Поэтому важно, чтобы в Министерстве культуры обязательно был профессионал, который будет заниматься современным искусством. Ведь нам есть что показать.
— Каковы ваши творческие планы на ближайшее время?
— У меня есть еще несколько проектов, которые идут одновременно. Я просто не хочу называть их пока не закончил работу. Не оставляю живопись, фотографию.
— Кстати, а откуда у вас фотография? Понятно, когда к ней прибегают нынешние художники-концептуалисты, но вы же из другого поколения…
— Я провел детство в Казахстане. Лет в десять мне подарили фотоаппарат, и так получилось, что фотографировать я начал раньше, чем рисовать. У меня есть много казахстанских фотографий, которые я делал еще в 10 лет. Аральский цикл, состоящий из фото, графики и живописи, сделанный мной в 1989 году, в Украине практически не был показан. Во многих работах, например, в новом проекте «Ритуальные танцы», мне помогло увлечение фотографией. Я очень люблю коллекционировать старые фото, негативы, причем не дореволюционные, меня больше интересует советское время, собрал коллекцию хроники 50—60-х годов. Толчком для этого проекта тоже были фотографии. Тема парадов, проходивших в то время, начиная от районного центра и заканчивая Красной площадью — и сейчас достаточно актуальна. Но меня это интересует не в контексте тоталитаризма в целом, а в контексте ритуала как некого порабощения. Заметьте: любая религиозная или идеологическая доктрина основана на ритуалах — адепты обязаны, например в восточных учениях, делать какие-то групповые упражнения. Для внутренне свободного человека неприемлемо жить по мановению некого дирижера.
— Напоследок хотелось бы узнать: как вы думаете, ваши акции как художника после Венеции пошли вверх?
— Думаю, что в отсутствии той системы, о которой я говорил — музей, наука, меценаты и коллекционеры, — это не играет никакой роли. У нас коммерческий художник, раскрутивший себя в бульварной газете или чаще бывающий на тусовках, более популярен, чем художник, имеющий реальные достижения. Поэтому я бы не сказал, что мои акции резко выросли. Да и меня как художника это меньше всего интересует. Сейчас в Чикаго проходит моя выставка, может быть, там это играет какую-то роль. А у нас в стране, когда толком нет рынка, работа оценивается не благодаря репутации или имиджу, а по принципу «нравится или не нравится». Если нравится — заплатят много денег, не нравится — ничего не заплатят. Многие возмущаются: накупят работ дорогого автора, а потом продать их не могут хотя бы за треть той стоимости. Потому что покупают, не спрашивая мнения экспертов. А когда начинают оценивать по-настоящему, чтобы продать, то выясняется, что за художником, кроме нескольких статей в бульварных газетах, ничего нет…
Выпуск газеты №:
№76, (2004)Section
Культура





