Президент как homo legens
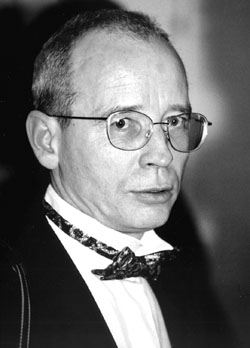
По мнению философов, сердцевиной homo sapiens, человека разумного, является homo legens, человек читающий. Одним этим Книге дается статус инструмента человекотворчества. А как это выглядит на будничном уровне? Действительно ли чтение является средством достижения успеха и реализации мечты? Почему, несмотря на всевластие компьютера и TV, в мире ежегодно увеличивается количество проданных книг? Зачем правительства ведущих государств расходуют огромные бюджетные средства на поддержку читателя? Обо все этом — в новой авторской рубрике главного редактора журнала «Книжник-review» Константина РОДЫКА.
Стало известно: Президент планирует встречу с украинскими книгоиздателями. Предвидя возможность такого коллективного интервью, книгоиздатели уже не один раз собирались обсудить свои ожидания от новой власти. Консенсуса не достигли. Поскольку — неясно, что понимает Гарант под понятиями «книга» и «чтение».
А это понятие, над которыми ломали голову все без исключения философы — от Аристотеля-Платона до различных ныне сущих феноменологов- герменевтиков. И вызвал такие розмышления не профессиональный нарциссизм, а поиск механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина — именно так, между прочим, обозначена в нашей Конституции роль нашего Президента.
На президентском посту трудно, конечно, следить за перипетиями мирового философского дискурса. Поэтому советникам стоило бы реферировать для него даже новинки отечественного книжного рынка, отражающие статус-кво проблемы. Даже перед встречей с издателями этих книг.
Одной из таких книг могло бы стать исследование Марии ЗУБРИЦКОЙ «Homo legens: читання як соціокультурний феномен» (Л.: Літопис, 2004, 352 с.) — издание, ставшее лауреатом в номинации «София» рейтинга «Книга року 2004». Это своеобразная энциклопедия взглядов всех без исключения актуальных сегодня мыслителей ХХ века на философские категории «книга» и «чтение». После прочтения только одной этой книги становится понятно, что без опеки книжной культуры правители подвергают общество на деградацию.
Книжная культура абсолютно отличается (при всей кажущейся схожести) от медиа-культуры. А эта последняя убедительно доказала способность быстро примитизировать человека — и это уже приобрело характер пандемии. Более того: только книго-чтение способно противостоять мутационному нашествию. Дело в том, что человеческая психика по-разному реагирует на различные информационные технологии: визуальная информация «считывается» правым, «эмоциональным» полушарием головного мозга, в то же время блокируя активность левого, «логического». На эксплуатации эмоций и инстинктов построена и поп- журналистика.
Украинский философ Сергей Пролеев (осмелюсь предложить референтам еще одну стоящую внимания книгу: Е.К. БЫСТРИЦКИЙ, С.В. ПРОЛЕЕВ, Р.В. КОБЕЦ, Р.В. ЗИМОВЕЦ. Ідея культури: виклики сучасної цивілізації. — К.: Альтерпрес, 2003, 192 с.) отмечает превращение двух основных типов цивилизационного сознания, традиционалистского и эсхатологического, в «новостийное сознание, формой восприятия и мышления которого становится не история или утопия, а клип». Об «экранности воображения» пишет и госпожа Зубрицкая: «Экранная культура радикально меняет наше отношение к действительности. Теперь человек имеет власть над местом, а не наоборот… Однако мы будто бы и не замечаем, как превращаемся в туристов, а не жителей планеты».
Посему философия ставит диагноз: под влиянием медиа-культуры гражданин превращается в перекати-поле, в «туриста», в единицу массовки, послушно заглядывающей в рот «экскурсоводу». Понятно, что любому бюрократическому аппарату легче «работать» с таким «населением». И правитель, считающий себя интеллектуалом, должен сознавать эту опасность, поскольку другого аппарата у него нет, не будет и быть не может. Так не только в Украине — во всем мире.
А опасность состоит прежде всего в непонимании нечитающим народом своего избранника; как правильно отметила в одном из интервью Оксана Забужко, «когда ты читаешь несколько сотен книг в год, а твой собеседник их читает три-четыре, то никакой диалог между вами невозможен: нет даже понятийного консенсуса» . Поляки, которые подняли свою книгу на надлежащую философскую, политическую и экономическую высоту, убедили своих правителей такой мантрой: «Народ, который мало читает, мало знает. Народ, который мало знает, везде принимает плохие решения: дома, на рынке, возле урны для голосования. В результате эти решения отражаются на всем народе. Необразованное большинство может победить образованное меньшинство — это очень опасный аспект демократии».
Но эффективно внушаемая телевидением и газетами парадигма «я начальник — ты дурак» начинает давать сбои, как только этот «дурак» берется за книги. То, что человек ищет в книге, по мнению М. Зубрицкой, — это «своеобразная реакция на естественный человеческий страх перед бесконечностью, неустроенностью и хаотичностью многозначности, перед чрезмерно разделенным и индивидуализированным миром значений, не подлежащих какому-то окончательному усвоению... попытка свести бесконечность мира к зримым и постижимым горизонтам… Общение с литературой способно изменить нас, расширить знание о возможностях человеческой экзистенции».
Итак, книго-чтение предстает как универсальное средство человеко-творчества, самоидентификации — «не одним из способов познавательного отношения к миру, а собственно способом человеческого бытия-в-мире» (М. Зубрицкая). «Чтение — это технология интеллектуального воссоздания в обществе», — отмечает Александр СЕМАШКО в книге «Соціологія мистецства» (К.: Міленіум, 2004, 300 с.), также стоящей внимания референтов. И далее этот автор переходит к практической, можно сказать, философии: чтение — это «институализация ценностей общества путем их предварительного ролевого «программирования» в процессе восприятия литературы».
А это уже, собственно, идеология, наиболее мощным носителем которой является именно книга. Это прекрасно сознавали правители всех великих государств. Социализм на «одной шестой земной тверди» — в значительной степени продукт книжной культуры. Взрощенное ею массовое сознание до сих пор владеет критической частью украинского электората. Прекрасно сознает огромные потенции книжной культуры и Путин: с одной стороны, системная поддержка государством непрерывного процесса чтения включила Россию в тройку самых сильных книжных государств мира, а с другой — удерживает массовое сознание смежных стран в орбите российской идеологии. Для нас такой вывод однозначно коррелирует с на 90 процентов оккупированным россиянами книжным рынком Украины.
Значит, с философской точки зрения (которая, повторюсь, все время стремится что-то подсказать реальной политике), главной заботой государства в книжной сфере должно быть, как выразилась М. Зубрицкая, «витворення читацького підсоння». От честного ответа на вопрос, сколько и какой читатель нужен Украине, и зависит выбор инструментов, среди которых бюджетные средства играют далеко не первую скрипку. А честный ответ можно услышать только тогда, когда субъектом этого «читацького підсоння» будет и сам Президент, и его назначенцы.
На коньках кататься мы уже умеем, а читать? Мир, например, знает, что в прошлом месяце американский президент читал книгу Натана Щаранского (и даже по телефону обменивался с ним впечатлениями), а до того — бестселлер Тома Вулфа, который он обсуждал со студентами; а еще раньше — приватно советовал министру обороны и госсекретарю ознакомиться с исследованием пулитцеровского лауреата о перспективах внешней политики США…
Что советует наш Президент прочесть нашим министрам? А что советуют они ему? И каждый ли из них может дискутировать об актуальных новинках со своими избирателями-студентами? К конце концов, нужен ли новой власти читатель ?
Выпуск газеты №:
№79, (2005)Section
Культура





