Фактор «неотправленного письма»...
Как урегулировать отношения между властью — владельцем СМИ — журналистом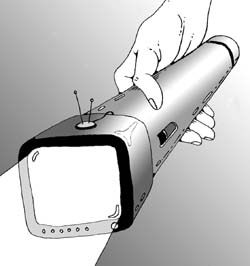
Да, следует признать — ситуация с выполнением этого права очень непроста. Уже хотя бы потому, что об этом говорят. Уже хотя бы потому, что существуют факты, которые склонны трактовать именно как наступление на это право. Первой ласточкой было увольнение главного редактора газеты «Сегодня» О. Ныпадымки. Потом — уход группы журналистов с телеканала «Тонис», ритуально-торжественный уход из того же «Сегодня» руководителя его политического отдела, заявления главы профильного парламентского комитета Н. Томенко, так и не отправленное Президенту письмо ста телевизионщиков и заключительный аккорд — предзабастовочное настроение коллектива агентства УНИАН. Везде называется одна причина: политическая цензура.
Коллеги, давайте не будем смешивать грешное с праведным. Каждый случай требует тщательного изучения. И тут очень важно развести разные понятия: цензуры — и права редактора на выбор тем, рубрик, характера подачи материала; работу государственных СМИ — и частных. И на поверку может оказаться, что разговоры о высоком не служат надежной ширмой для решения каких-то приватных проблем. Ведь приходит время, когда так удобно слыть оппозиционером.
Одна из причин сложившейся ситуации — отсутствие корпоративности в журналистской среде. В свое время была упущена возможность консолидации всех сил. Никто не беспокоился о выработке общих требований. Мало кто выражал желание проводить общие акции. Тот, кто пытался что-то сделать, оставался одинок. Корпоративность существовала только в одном — в родо-племенном подходе к определению «свой—чужой». И сегодня следует провести большую работу для того, чтобы очистить авгиевы конюшни отечественной журналистики. Отсутствие же четко обозначенных критериев не позволяет вести нынешний разговор по сути.
Но проблему надо решать. Ведь и в самом деле — произошло сокращение аналитического вещания в отечественном ТВ. Чем это не сигнал о тенденциях на упрощение информационного обеспечения граждан? Или другой пример — «захват» УТ-1 «тройкой». Чем не свидетельство того, что в информационном пространстве оппозиция представлена неадекватно?
А может, тем же активным составом лоббировать такие законы, которые сделают СМИ зависимыми только от одного фактора — потребителя? Именно это приходит на ум, когда читаешь отчет агентства Интерфакс-Украина о недавней встрече спикера Верховной Рады В. Литвина с руководителями телеканалов. Подводя ее итоги, спикер заявил о необходимости законодательно закрепить два положения: «запретить владельцу вмешиваться в деятельность журналистов», а также — обозначить уровень минимальной зарплаты украинского журналиста. Насколько помнится, эти два пункта входили в предвыборную программу Владимира Михайловича. Но насколько они актуальны сегодня? С просьбой прокомментировать предложение В. Литвина и предложить собственный рецепт урегулирования отношений «власть — владелец СМИ — журналист» «День» обратился к экспертам.
Влад РЯШИН, председатель правления телеканала «Интер»:
— Чем мощнее средство массовой информации (издание или телекомпания) в финансовом плане, тем оно независимее от власти. Чем оно мощнее, тем мощнее в финансовом плане и журналисты, работающие в этом издании, тем шире арсенал средств, при помощи которых они могут показать и доказать свой профессионализм. И, в конце концов, чем лучше экономическая ситуация в этой области, тем больше средств массовой информации, которые нуждаются в высокопрофессиональных журналистах. Исходя из этого, формируются отношения «издатель (или владелец) — журналист». Я согласен с господином Литвином в той части, что чем больше средств массовой информации, тем больше конкуренция журналистов. Тогда и отношения между владельцем и журналистом (который уверен в себе: он обеспечен, к тому же он в любой момент может быть востребован другим, конкурирующим СМИ) будут другими. Они будут более этичными, цивилизованными и уважительными. Потому что имидж журналиста, его профессионализм — это его товар. Поэтому изменение экономической ситуации в СМИ, хотя, в принципе, не решает полностью проблемы (потому что все равно СМИ никогда не бывают полностью независимыми, все равно они кому-то принадлежат; все равно есть государственные СМИ — от этого никуда не деться), но ослабить эту зависимость в цепочке «власть — владелец СМИ — журналист», безусловно, поможет.
Я думаю, что желание выстроить эту цепочку — правильное. Хотя в нынешней ситуации определение указом минимальной зарплаты и обязательства не вмешиваться вряд ли приведет к чему- то конкретному. Но, подчеркиваю еще раз, я соглашаюсь с господином Литвином в том, что вот эта цепочка — правильная. Чем выше будет уровень жизни украинцев, тем больше будет компаний, тем больше будет объем рекламного рынка, тем лучше будут себя чувствовать люди, в том числе работающие в СМИ, тем больше будет телепродукта.
Олег МЕДВЕДЕВ , политолог:
— По сути, заявление В. Литвина во многом, с определенной точки зрения, правильное. Но, как мне кажется, применить его к той вакханалии, которая сейчас творится между властью и средствами массовой информации, невозможно. Литвин был излишне мягким и толерантным. Мне кажется, что Литвин, как председатель Верховной Рады мог бы активнее вмешаться в эту ситуацию и сделать что-нибудь для ее исправления. Потому что когда из СМИ уходят журналисты с заявлениями о политической цензуре, когда такие заявления делают целые журналистские коллективы, то это уже очень серьезный повод для того, чтобы бить в набат. Ведь то, что сегодня происходит в информационной сфере, дискредитирует и Украину в целом, и власть в частности.
Безусловно, на перспективу в кардинальном пересмотре нуждается законодательство. Отношения «власть — собственник — журналист» должны быть урегулированы законодательством. В законодательстве такое понятие как собственник прописано очень слабо, его функции не отрегулированы, а собственник на сегодняшний день, как показывает практика, является ключевой фигурой в украинских СМИ. И издатели и журналисты являются подчиненными по отношению к собственнику.
Юлия ЖМАКИНА , журналистка украинской службы «Радио Свобода»:
— Мне кажется, что эта встреча спикера парламента с руководителями ТРК была, что называется, вызвана временем — в связи с цензурным давлением, которое особенно ощущают сотрудники, журналисты, редакции телеканалов. И, например, Администрация Президента подхватила тезис господина Литвина о том, что линия конфликта как раз пролегает между владельцами СМИ и собственно журналистами, низшим звеном журналистских коллективов. Но это подмена понятий, поскольку все-таки большинство из них говорит не столько о внутриредакционных указаниях, сколько об указаниях сверху; и указывают именно на АП. Поэтому как раз зона конфликта сейчас пролегает между властью и редакционными коллективами. Что же касается владельцев и редакционных коллективов, и тезиса господина Литвина о том, что, мол, проблема в том, что СМИ становятся негосударственными, то, простите, разгосударствление СМИ — это мировая практика. И что, в таком случае спикер предлагает что-то противоположное? Конечно, было бы странно возражать, что существует не давление, а определенная политика (здесь нужно употреблять это слово), которую реализуют владельцы СМИ через эти средства. Это понятно, потому что речь идет об их инвестициях, их деньгах. И конечно, здесь нужно напомнить, что очень важно было бы наконец обнародовать информацию, кто является акционерами, кто является владельцами или учредителями СМИ. Тогда людям, которые потребляют эту информацию (нужно постоянно вспоминать именно об аудитории), будет понятнее, что они смотрят, что стоит за новостями, что стоит за определенными информационными модулями. Тогда процесс был бы более честным. Поэтому ситуация стандартна в смысле существования негосударственных СМИ: здесь речь идет, собственно, о том, как политическая ситуация отражается на отношениях с журналистами.
А определение минимальной зарплаты журналистам, с моей точки зрения, — это абсурд. Что касается негосударственных СМИ, то уровень зарплаты — это тайна, и каждый журналист подписывает контракт с владельцем или с руководителем коллектива. Что же касается государственных СМИ — наверное, может идти речь о минимальной зарплате, но, конечно, это не может распространяться на частные СМИ.
Виктор ПОНЕДИЛКО, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания:
— Я скажу следующее: на одного романтика в государстве стало больше. Этим все сказано. Один романтик уже и про свободу слова, и про свободу журналиста много говорил, что-то делал, записывал в законах, но из этого ничего не вышло. Я имею в виду себя. А на одного романтика — Владимира Литвина — стало больше. Но этот романтик более «тяжеловесный», поэтому, может быть, ему больше и удастся. Я хотел бы увидеть, как это на практике будет сделано. Как собственник не будет оказывать влияния? Есть такой механизм или нет? Наверное, нет. Это то же самое, что утверждать, что на меня Верховная Рада никак не влияет на предмет принятия решений в Национальном совете по вопросам ТВ и РВ. Парламент же меня в Национальный совет назначал на работу. И у меня что, с головой не все в порядке, и я буду делать что-то вопреки решениям и постановлениям Верховной Рады? Меня же мгновенно снимут. Вот вам и тот механизм, о котором мы с вами толкуем. То есть намерения хорошие. Я «за» и готов убеждать всех и вся, чтобы такой законопроект был принят. А будет ли он работать? Вот вопрос.
Дмитрий КИСЕЛЕВ, главный редактор информационной службы ICTV:
— Во всех странах свобода СМИ обуславливается именно тем, что у СМИ есть частный владелец. В США, например, нет государственного ТВ и ничего в этом страшного нет. Значит, свобода обуславливается свободой выбора журналистом работодателя. И работодатель (владелец), естественно, определяет редакционную политику (линию): для этого он и покупает средство массовой информации. Так — во всех странах мира, и это нормально. Если вы хотите запретить работодателю вмешиваться в редакционную политику, то это просто нереально. Во-первых, это нарушение прав собственника. Можно провести аналогию: скажем, я купил поле, но не могу принять решение, что на нем сеять. Или я купил автомобиль, но не могу принять решение, куда на нем ездить и т.д. И во-вторых, иной путь — государственные СМИ. Но мы только недавно от этого ушли. Конечно, государственные СМИ могут конкурировать на рынке СМИ, но лишь как один из игроков. А если государственные СМИ будут иметь доминирующее влияние, то это — возврат к тоталитарной системе (с этим трудно согласиться по идеологическим соображениям). То есть речь идет, во-первых, об экономических соображениях, а во- вторых — об идеологических. Но если все же говорить о путях регулирования и ограничения давления собственника либо инвестора на журналистов (ведь у журналистов тоже есть права и существует понятие «свобода слова» и т.д.), то во всем мире эта проблема решается очень просто. Существует журналистский кодекс — своего рода коллективный договор между журналистами и владельцем. Это как устав в армии, где определено, что позволено, а что нет. То есть это — провозглашенные принципы (но это уже моральная сторона дела, а не законодательная). И журналист, приходя в редакцию, должен иметь возможность ознакомиться с несекретным документом (этот документ должен быть доступен для всех желающих, в том числе и для потребителей информации), в котором провозглашается информационная политика и принципы деятельности СМИ. Такие кодексы есть во многих редакциях мира, они свободно публикуются и обсуждаются. Вот и все. Так что мне кажется, что выход в этом.
А минимальная зарплата журналиста — это все равно, что минимальная зарплата актера. Есть хороший актер, а есть плохой актер. В мире есть актеры, которые получают сотни миллионов долларов, а за иного актера не дадут и ломаного гроша. То же можно сказать и о журналистах. Если говорить о минимальной зарплате для них, то, как мне кажется, здесь очень проглядывает административное мышление. С некоторых журналистов еще нужно деньги брать за то, что они имеют возможность обучаться в редакции. Так что необходимость определения минимальной зарплаты журналиста у меня вызывает скепсис.
Евгений ЯКУНОВ, первый заместитель главного редактора газеты «Киевские Ведомости»:
— Что касается первого пункта, то в нашем Законодательстве о прессе заложена норма, запрещающая учредителям вмешиваться в работу газет и других СМИ. Но, как видим, это ничего не дает. И к тому же неясно, каким образом можно запретить владельцу СМИ вмешиваться в деятельность журналиста. Скажем, для какого-нибудь издателя или собственника газеты эта газета — его бизнес, у нее есть какие-то программные цели. И, естественно, собственник вмешивается каким-то образом в работу СМИ. У него ведь могут быть какие-то идеологические соображения, свои политические установки. И поэтому, если запрещать ему редактировать эту газету или, скажем так, вести ее, то он просто прикроет проект. И все. То есть реализовать вышеупомянутую норму практически невозможно.
Теперь — о зарплате. Я не думаю, что наши журналисты мало зарабатывают. Точнее, журналист может зарабатывать много. А в ситуации такого жесткого противостояния некоторые журналисты (те, которые, грубо говоря, занимаются PR ом), наверно, зарабатывают дажебольше. Потому в данном случае я тоже не считаю, что определение уровня зарплаты украинского журналиста законодательным путем — хороший выход. Законодательным путем можно что угодно решить, но все равно это решать ничего не будет.
Другое дело, что главную проблему я вижу даже не в цензуре. Цензура у нас была всегда. И даже в Конституции (ст. 34. — Ред. ) прописано, что у нас есть определенные ограничения свободы слова: в интересах территориальной целостности страны и т.п. То есть эта цензура есть. Цензура всегда была в партийных изданиях, потому что они действительно идеологические. И сейчас ситуация обострилась именно в связи с тем, что возникло отношение «власть — оппозиция». И вот в отношении «власть — оппозиция» получается так, что журналист может, например, разделять, взгляды оппозиции, а работает при этом в газете, учредитель или топ-менеджер которой разделяет взгляды власти. И, конечно, возникает конфликт — конфликт, при котором журналист как бы должен уходить из газеты, которая не разделяет его взгляды. Но дело в том, что ему больше некуда пойти, потому что те СМИ, которые есть у оппозиции, заполитизированы, это в чистом виде боевые листки, как кто-то их назвал. То есть, в принципе, журналисту, который создал в газете или на ТВ свой проект, который что-то делает, туда уходить — значит уходить в небытие. И я думаю, что вот это противостояние — проблема не журналистов. Нельзя ни поднимать журналистов на восстание, ни давить их какими-то установками. Эту проблему должны решить политики. И я думаю, что главное сейчас, что может каким-то образом разрядить ситуацию, — это срочное принятие Закона «Об оппозиции». И в законе «Об оппозиции» должна быть определена квота для оппозиции на освещение в СМИ. Его выполнение можно контролировать, например, определив какие-то уголовные санкции за его нарушение. В этом случае и топ-менеджеры, и хозяева газет будут вынуждены, чтобы не нарушать закон, предоставлять слово оппозиции. А журналиста я бы не впутывал в политические разборки. Журналисту, действительно, очень тяжело. Потому что он, по сути своей, — ищейка правды: он ищет информацию. А когда вместо информации пытаются заставить его заниматься PR-ом, то, конечно, это вызывает у него определенное сопротивление.
Выпуск газеты №:
№180, (2002)Section
Медиа





