Московские каникулы
XXV Московский кинофестиваль глазами корреспондента «Дня»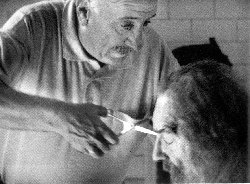
Москва стремится удивлять. В основном — чем-либо грандиозным, крупноформатным, каким-нибудь «самым большим слоном» в мире. Однако после юбилейного, ХХV, Московского кинофестиваля остается осознание, что на сей раз златоглавая столица себе изменила.
Все обстояло скромно с самого начала. Официальные лица рангом выше Юрия Лужкова фестивальные церемонии проигнорировали. Из именитых иностранцев прибыли и без того частые гости России — Джина Лоллобриджида и Питер Гринувей, в жюри заседал седой, легендарный и полузабытый Кен Рассел, в последние дни подъехали по очереди костолом Стивен Сигал и неувядаемая Фанни Ардан. Но это так, протокол. Настоящая скромность царила в конкурсе ММКФ.
Складывалось ощущение, что фильмы подбирались по принципу максимальной усредненности. Чтоб не слишком злые, не очень заумные, но и не чересчур облегченные. С актуальной тематикой и политкорректным воплощением. В итоге конкурс стал походить на пресный стерилизованный субстрат, в котором есть все (жанры, темы, герои, ситуации, звезды) — и ничего. А некоторые картины так и вовсе вызывали недоумение самим фактом своего присутствия.
Так, к примеру, совершенно было непонятно, что делает в конкурсе абсолютно пустопорожняя бразильская «Да будет воля Божья». Насквозь вторичный коктейль из штампов голливудских молодежных комедий, конечно, не утомлял, более того, и минимальной работы мысли не требовал.
Жанровое кино для фестиваля — это, вообще, инородное включение. Такие фильмы прекрасно идут и вне конкурсов, ибо рассчитаны не столько на оценку их эстетического уровня, сколько на получение прибыли. То есть рекомендация от кругов авторского, арт-хаусного, кинематографа для них — лишь дополнительный слоган в рекламной кампании. Например, «Засну, когда умру» британца Майкла Ходжеса с Кливом Оуеном, Мальколмом Макдауэллом и Шарлоттой Ремплинг в главных ролях является стопроцентно массовым кино, криминальным триллером, построенным на мотивах сексуальной перверсии, убийства и мести. Коммерческий продукт — и британо-германо- американский «Убить короля» с Тимом Ротом и Рупертом Эверетом — костюмное кино о временах революции в Англии. Соответственно одетая массовка, натуральные сцены казней и военных столкновений — все это, конечно, хорошо, но ничего нового в этом фильме нет.
На другом полюсе — кинематограф с претензией как раз на новизну, или, по крайней мере, оригинальность высказывания. Образцово плохим здесь оказался еще один латиноамериканский фильм — колумбийская «Несчастная любовь». При впечатляющем разнообразии сюжетов, которые, казалось, подбрасывает сама жизнь в разодранной насилием стране, режиссер Хорхе Эчеверри предложил ряд неубедительных картинок из жизни местной наркобогемы.
Другая сторона претенциозности — посягательство на оригинальность самовыражения. По этой части не имел равных петербуржец Алексей Учитель, чья «Прогулка» открывала фестиваль. Задействовав все необходимые для успеха компоненты, как-то: съемку прыгающей камерой, актеров Театра Петра Фоменко и, в особенности, напористый пиар, Учитель получил на выходе неубедительный результат. Нечто, похожее, скорее, на телевизионную зарисовку с «деревянными» актерами и откровенно провальным сценарием.
На другого петербургского режиссера мультфильмов, Ирину Евтееву, возлагались определенно большие надежды. «Петербург» — ее первая полнометражная анимация, в которой использованы хрестоматийные образы северной столицы из классических кинолент советской эпохи, от «Шинели» до «Пиковой дамы». Замысел небезынтересный, но подвело отсутствие внятной драматургии. Впечатляющие картинки рассыпаются пестрыми ворохами, «изношенность» заимствованных кадров не компенсируется свежестью прочтения. Однако, по крайней мере, Евтеева искренна в любви к своему, несмотря ни на что, великому городу.
Что двигало известной актрисой Валерией Бруни-Тедески, совершенно неясно. Она прославилась как исполнительница главных ролей в фильмах других режиссеров, за что однажды даже получила Золотого льва в Венеции. Но соблазн самой стать фильммейкером преследовал ее давно. В фильме «Легче верблюду…» она его реализовала, сняв, кроме себя, также Кьяру Мастрояни. Сюжет, конфликт и тема сего невероятно скучного произведения исчерпывается известной фразой — «богатые тоже плачут». Добавить, в общем-то, нечего.
Вопрос мотивов также возникает каждый раз при просмотре картин, затрагивающих злободневную тематику. Если картина не очень удачная (увы, чаще так и бывает), то упрекать режиссера все равно как-то рука не поднимается: быть может, он действительно переживает по этому поводу и стремится исправить мир к лучшему.
Но зритель-то к лучшему не исправляется. Зритель не может понять, почему нужно смотреть подробное изложение судебной тяжбы уборщицы с уволившей ее компанией («Эйла», Финляндия). Или созерцать унылую историю злоключений в титовской (до того — царистской и оккупированной) Югославии («Разогреть вчерашний обед», Болгария—Македония). Или переживать за двух подростков, голландку и афганца, которые, конечно, страдают несправедливо от преследований наркомафии, но снято это все так, что в сон начинает клонить уже спустя минут двадцать («Лунный свет», Нидерланды).
И ведь в конъюнктуре никого не обвинишь. Проблемы есть и есть честные попытки их осознать. Жаль, что попытки эти так и остаются на уровне газетной статьи, телевизионного очерка.
Нет, все-таки кинокритик — странная профессия. Критик — если он добросовестный, настоящий профи — высиживает до конца длиннейшие и скучнейшие киносеансы, когда утомленные зрители уходят толпами. Критик смотрит кино не просто много — чрезмерно, по 6—7, а то и больше фильмов в день, перелопачивает тонны и километры визуального мусора (одна из программ ММКФ, кстати, так и называлась — «Трэш (буквально «мусор») —ретроспектива»), чтобы найти крупицы настоящего таланта и авторской самобытности. Массовый зритель, конечно, ходит на массовое кино. Последнее, однако, имеет крайне ограниченный срок годности — сезон-два, после чего безвозвратно уходит в утиль. Критик же работает на ту, не ограниченную числом и временем аудиторию, которая будет смотреть талантливый фильм и десять, и двадцать, и сто лет спустя.
Впрочем, неизвестно, уготована ли блистательная будущность тем конкурсантам, что, по разным причинам, выбивались из общего числа, и за одно это уже получили призы — тут жюри проявило редкостную объективность. Это вопрос не целого, а тех же «крупинок», проблесков дарования.
Так, основное достоинство фильма «Коктебель» — отличная операторская работа Шандора Беркеши. Красиво снятая, хотя и не слишком удачная по части сценария и работы с актерами история о мальчике и его беспутном отце, перебирающимся на перекладных в теплый Коктебель, практически все дни фестиваля называлась одним из фаворитов, что неудивительно — остальные претенденты от хозяев явно проигрывали. В итоге режиссерско-сценаристскому тандему Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова вручили Спецприз жюри, с попутной рекомендацией почаще прибегать к монтажным ножницам.
Очень интересно смотреть первые полчаса японскую «Сову». 91-летний патриарх, любимец Московского фестиваля (трижды получал главные призы) Канэто Синдо сочинил занятнейшую небылицу в духе средневековых преданий его страны о ведьмах и оборотнях. Две красотки, мама и дочь, заманивают мужчин к себе в заброшенный дом в горах, ублажают их, берут деньги, а потом опаивают волшебным зельем, выявляющим в каждом клиенте истинную его сущность — петушиную, козлиную или свинскую. Предсмертное слово жертвы звучит глубоким откровением. Инфернально- эротические акты сняты очень живо и остроумно. Однако далее, кажется, режиссер просто не знает, как распорядиться сюжетом. И сворачивает его то в триллер, то в невыносимо приторную мелодраму. Положение — и то не полностью — спасает Синобу Оотакэ, мастерски сыгравшая старшую ведьму. В итоге актриса и получила статуэтку Святого Георгия за лучшую женскую роль.
С дебютом иранца Асгара Фархади — «Танцуя в пыли» — диаметральная ситуация. Сюжет продуман и внятен, даже слишком. Сугубо иранская проблематика — главный герой, бедняк-азербайджанец, вынужден развестись с горячо любимой женой только из-за того, что у ее матери плохая репутация. Единственный способ как-то подтвердить свою любовь — возвратить сумму приданого. Вот парень и пускается во все тяжкие, прибивается к суровому змеелову, чтобы подзаработать на опасном занятии. И, естественно, чуть не погибает. Такой себе персидский неореализм, слишком уж для внутреннего употребления. То есть тема, похоже, понятная и глубоко волнующая каждого иранца, особенно молодежь. Но сделана по- школярски старательно, напоминает множество других подобных опусов о конфликте общественного и частного. Исполнителю главной роли Фарамазу Гарибяну дали «Георгия» за лучшую мужскую роль. Возможно, в будущем из него и вырастет классный актер. Пока же он запоминается тем, что его слишком много, что он голосит и шумит беспрерывно, и потенциальный талант просто тонет в утомительном надрыве.
В чем критики и зрители достигли единодушия — так это в оценке датско-шведско- британского «Скагеррака». Для Серена Краг-Якобсена эта лента стала следующей после его удачного мезальянса с движением — «Догма» («Догма №3» — «Последняя песнь Мифунэ»). Все формулировки жюри адекватны: глубокие и хорошо проработанные характеры, замечательное чувство юмора, оригинальный сценарий и талантливый актерский ансамбль (приз ФИПРЕССИ), неожиданное сочетание элитарного и массового (специальный диплом Гильдии кинокритиков и киноведов России), ну и приз Федерации киноклубов России — наверняка примерно за то же. Краг-Якобсен не стал тяготиться авангардно-«догматическим» наследием и снял приятную во всех отношениях мелодраму о молодой суррогатной матери, попавшей в криминальную переделку; с полным, но, что особенно подкупает, совершенно неожиданным хеппи-эндом.
Еще один, на сей раз корейский, кинодебют «Спасти зеленую планету!» расколол изнутри и публику, и киноведов. Многие сочли первый фильм молодого Чан Чжун Хвана претенциозной, бредовой поделкой на грани «мусорного» кино категории «Б». Меньшая часть оценила неуемную фантазию режиссера, его синефильскую самоотверженность и беспредельную страсть к кино, заметную по любовному обыгрыванию цитат из великих лент прошлого. Из совершенно разнородных элементов Хван скроил натуральную фантасмагорию о безумце, похищающем высокопоставленных деятелей политики и бизнеса с целью выведать их... инопланетное происхождение. Количество абсурда уже к середине фильма зашкаливает, к концу, учитывая, что режиссер еще и пытается вызвать у зрителей сочувствие к главному маньяку (!) — утомляет. Тем не менее дарование налицо, и «Георгий» за режиссуру — на фоне, повторюсь, блеклого конкурса — выглядел логично. Предположения делать рано, но, возможно, скоро Страна утренней свежести будет прирастать не одним только Ким Ки Дуком.
Наконец, обладатель главного приза испано-итальянский «Божественный огонь» имел в себе все то, чего недоставало остальным соискателям. Не затянут, местами волнует всерьез, а финал — неподдельно красив и поэтичен. У режиссера Мигеля Эрмосы получилась добротная реалистическая фантазия, построенная на ряде допущений, — а что было бы, если бы Федерико Гарсиа Лорка выжил после расстрела? И потерял бы память? И его бы подобрал некий полуграмотный чудак? А потом, спустя 40 лет, догадался бы, кто на самом деле этот нищий беспамятный старик? Соединение гениальной поэзии Лорки с прочувствованным гуманизмом картины не выглядело натяжкой. Хотя, конечно, на шедевр, провоцирующий острые дискуссии и многократные пересмотры, нынешний лауреат не тянет. Для этого надо было смотреть внеконкурсные программы.
Выпуск газеты №:
№117, (2003)Section
Общество





