Об истине и большинстве
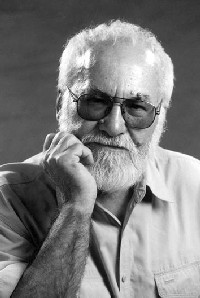
ЗА ЧТО КАЗНИЛИ СОКРАТА?
Когда в курсе философии дело доходит до Сократа, преподаватель, как говорят, раскрывает образ народного мудреца, сурового критика недостатков афинской демократии, павшего жертвой жестокой несправедливости. Суд присяжных, числом в пятьсот человек, с перевесом всего в тридцать голосов, приговорил его к смертной казни через собственноручное отравление. Бедняге пришлось выпить кубок яда. Подводя итог правдивому рассказу, преподаватель обычно заявляет что-нибудь вроде того, что «Сократ явил собой высочайший пример кристально честного, независимого мыслителя» (из Философского словаря), искание истины было для него выше всех других побуждений. Много лет и я так же раскрывал образ Сократа и подводил такой вот итог. Но однажды в моем сознании на почетном месте, где всегда пребывал Сократ, вдруг оказался чеховский злоумышленник, общественно опасное деяние которого заключалось, как известно, в отвинчивании гаек на железнодорожном полотне. Такая метаморфоза меня удивила, пришлось разбираться.
В «Апологии Сократа» Платон передает нам речи обвиняемого мудреца на заключительной стадии процесса. Сократ оправдывает себя, а обвинителей осуждает. Не от своего имени, а от имени Истины, это хотелось бы подчеркнуть. Он обращается к судьям: «И вот я, осужденный вами, ухожу на смерть, а они, осужденные Истиной, уходят на зло и неправду». Понимать это надо так: Сократа судят люди, слабые и склонные к ошибкам, а его обвинителей судит Истина. Не сама по себе, правда, а в лице своего представителя. Сократ вообще много на себя брал.
Он был страстно предан Истине. Это его и погубило. Началось с того, что давным-давно в Дельфийском храме пришло молодому Сократу от имени Бога слово. Сказано было, что нет на свете никого мудрее его. Ну, сказал Бог, иди себе домой и довольствуйся комплиментом. Нет же, Сократ стал ходить по разным людям, слывшим мудрецами, и испытывать их на мудрость. У него, стало быть, не было веры в современном смысле. Он не поверил Богу и занялся испытанием откровения. Хотя сам он говорил, что занимается этим, чтобы подтвердить изречение Бога. Эта работа целиком его захватила. Ничем другим он больше никогда не занимался, оставил все дела, и потому к старости, когда случился суд, пребывал в крайней бедности. Занятие это он называл почему-то «службой Богу».
Ладно бы «распознавать и разбирать» людей и делать выводы для себя. Так нет, всякий раз, когда по меркам Сократа оказывалось, что испытуемый на мудрость человек вовсе не мудр, а лишь мнит себя мудрым, он принимался втолковывать этому человеку мысль о его несостоятельности. О себе он говорил, что знает то, что ничего не знает. И хотел, чтобы все другие говорили о себе то же. Но это не все. В хождениях по мудрым и знатным людям Сократа сопровождали по собственному почину молодые люди. Они потешались при испытаниях, а испытуемые — люди в летах, чувствовали себя неловко. На суде это будет квалифицировано как «развращение молодежи». Наконец, афинянам все это надоело, и решили от Сократа избавиться.
Люди не любят, когда их разбирают, вот, видимо, в чем дело. А Сократ только этим и занимался, похоже, с наслаждением. В конце своей оправдательной речи он сообщает присутствующим, что продолжит это занятие и в Аиде, т.е. на том свете, как только переселится туда. «Хорошее это будет дело, — говорил он, — проводить время в том, чтобы распознавать и разбирать тамошних людей.» Разбор, разбирательство, разборка — дела небезобидные, если не сказать, опасные. Сократ, по-моему, просто зануда.
А чем, собственно, занимались те, которых испытывал Сократ? Они назывались софистами и учили за приличную плату ораторскому искусству. Люди в массе своей не платят за то, что им не нужно. Есть, конечно, дураки, но они не в счет. Если софистам платили, значит на их услуги был спрос? Разумеется. Сегодня нам трудно представить, насколько важным делом было для греков умение говорить публично. Каждый мужчина, вступавший в совершеннолетие, должен был произнести политическую речь перед людьми своего круга. Такого испытания на зрелость просто требовала демократия как образ жизни. Успешно выступать, т.е. уметь убеждать «судей в суде, советников в Совете, народ в Народном собрании» (так говорил софист Горгий), и вообще брать верх в любой спонтанно возникающей уличной дискуссии — каждый свободный человек считал это одной из главных добродетелей, если не самой главной. Кстати, всякий ли наш читатель знает, чего боятся современные американцы? По данным социологов, 51 процент американцев больше всего боится публичных выступлений. Им бы софистов! Не указывает ли это на особое почтение американцев к этой добродетели? Человек больше всего боится оказаться несостоятельным в том, что, по его мнению, все считают важным. А наши политические ораторы? Уж они-то не боятся.
Простодушные или лукавые люди убеждают нас, что в суде ищут и находят истину. О, святая простота, или что-то совсем другое! В суде истину не ищут и никогда не искали, там решается вопрос — кто кого? Каждому ясно, что участников процесса интересует не истина, а успех дела. Своего дела. Вы скажете, что для поиска истины есть судья. Из интеллектуального фехтования адвокатов, представляющих стороны, судья выводит истину. Пусть так, но не проще ли сказать, что истина оказывается на стороне победителя в состязании. И судья, так же, как, к примеру, на ринге, только объявляет об этом. Вот этому и учили софисты — побеждать в споре, или убеждать публику в том, что победитель именно ты.
Состязательное начало окрашивало все греческую культуру. Говорят, что это была агональная культура (агон на древнегреческом — борьба, состязание). Греки были одержимы состязанием. Конкурсы поэтов, певцов, музыкантов, танцоров, конные соревнования, наконец, Олимпийские игры — можно подумать, что греки только этим и жили. На время Игр прекращались военные действия, не заседали суды, не совершались казни. Итак, жизнь — состязание. А поскольку высшие добродетели грека — мудрость, сообразительность и рассудительность, обнаруживаемые в говорении, то Суд, Совет и Народное собрание — как бы самые почетные ристалища. Ни с чем не сравнима победа, одерживаемая там. И вообще умело убедить кого-то в своей правоте, может быть, и объегорить, не только в суде, а в любом акте публичного говорения, — дело, считали афиняне, достойное того, чтобы ему упорно учиться.
На деле говорения, взятом в широком смысле, зиждется вся общественная жизнь. И соткана она не только из нитей логики. В общении мы используем знаковые конструкции, значимые только в своей целостности. И в поведении тоже. Стереотипы, идеологемы, метафоры, намеки, мимика, жесты — жизнь пронизана коммуникативным туманом, он-то и придает ей шарм. Чего стоит язык взглядов! Мы научаемся не сталкиваться в этом тумане, а, наоборот, находить желаемые уголки комфортности и избегать опасностей. Если «разбирать» туман, получатся капельки воды. Лучше этого не делать, туман туманом, а капельки капелькам. Отдельные капельки еще не туман. Сократ разбирал не конкретных людей, он разбирал рельсы, по которым движется поезд повседневной общественной жизни, поезд community. Коммуникативные структуры, скрепляющие жизнь, создающие community, при их разбирании рассыпаются на части, отдельности, детали, не имеющие смысла. Это неожиданное открытие, если над ним призадуматься, ведет к скептицизму и унынию. Ибо делается вывод об условности и случайности самого бытия. В действительности так оно и есть, однако традиционному сознанию вынести эту откровенность не под силу. Оно осуждает злоумышленника, и общество, инстинктивно защищаясь, уничтожает его.
СОСТЯЗАНИЕ — ПОДЛИННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Сократ, при всей его иронии, был все-таки человеком слишком серьезным. Можно сказать, слишком рационалистом. А софисты относились к дискуссии как к чисто человеческому предприятию. Они не были озабочены поиском абсолютных сущностей, а просто обучали умению изменять ситуацию в свою пользу. Игра и торговля — вот подходящие примеры таких чисто человеческих предприятий. В игре мы хотим победить, просто участвовать желают только слабаки. В торговле мы хотим дорого продать и дешево купить. Мы хотим успеха. Все это естественно, по- человечески понятно. Этому надо учиться, а у кого-то к этому способность, дар от Бога. И все, конечно, по правилам. Да, честная игра и честная торговля. Но в том-то и дело, что сколько существуют игра и торговля, столько спорят люди о границе, разделяющей действия по правилам, от того, что называют шулерством и обманом покупателей. Ну какой продавец не хвалит свой товар? И чем занята могущественная индустрия рекламы? А что делают судьи на таких, казалось бы, беспроблемных соревнованиях, как игра в шахматы?
Социологи, изучающие СМИ, уверяют, что большой процент читателей понимает смысл газетных публикаций с точностью до наоборот. Вот и я рискую быть обвиненным в пропаганде жульничества и оправдании пошлых пиаровских акций. Увы, это не так. Я хочу только обратить внимание на состязательное начало, которое всегда присутствовало в жизни и которое на какое-то время было осуждено и заменено в воспитании идеей сотрудничества. Чтобы разговоры о межиндивидуальном состязании не отвлекали от главного — классовой борьбы. Давайте вернем состязанию как сильнейшему жизненному инстинкту достойное место. Жизнь — это действительно борьба за ограниченный ресурс. Возможно, именно эта борьба породила институты цивилизации — право и мораль, т.е. системы правил, по большей части — запретов, ограничивающих применение средств на пути к ограниченному ресурсу.
Присмотревшись к жизни сквозь призму состязательного начала, мы рельефнее увидим привычные явления. Поймем, например, согласие как результат двусторонних усилий. Это совсем не то, что пресловутый спор, в котором якобы рождается истина. Истина одна на всех, а интересов как минимум два, они противоположны и сталкиваются в состязании. Мы поймем соглашение или договор как окончание говорения. Именно согласие является целью убеждения. Далее, положив в основу состязание, мы лучше поймем диалогичность говорения. У Сократа диалог мнимый. Если цель беседы — поиск единой истины, то достаточно и единого, т.е. одного, мыслителя. Так на деле и выходит, Сократу нужны собеседники как спарринг-партнеры. Подлинный диалог — разговор на равных. Тогда находится не истина, а компромисс, в котором легко выявить вклад каждой стороны.
И, наконец, выход в современность, или мораль сей басни о Сократе. Демократия — это власть большинства, как бы это нам не нравилось. При демократической процедуре принятия решений говорение имеет определяющее значение. Принимается не истинное решение, а то, за которым стоят люди, умеющие убеждать большинство. Выбирается в президенты не лучший из граждан страны, а тот, кто сумел убедить большинство избирателей отдать голоса за него. Каким образом — это его секрет. Так происходит практически. Зачем же тогда рассуждать об истине и лучших людях, которых мы ищем, чтобы избрать во власть? Тут, я предполагаю, у кого-то из читателей всплывет идея обмана. Нас, мол, — избирателей и потребителей — просто дурят! У меня она не всплывает, но думаю, эта мысль гораздо конструктивнее, чем считать, что вы, дорогой читатель, вместе с начальником ищете истину.
Между тем мы все еще хлопочем об истине. Когда нас не устраивает решение, принятое большинством, мы говорим, что большинство ошибается, и не хотим его признать. Мы все еще считаем, что истина сообщается нам умниками, которые умеют единолично схватывать ее, сидя в кабинете. Нам постоянно твердили, что вопрос об истине не решается голосованием. К примеру, узкая группа умников, изучивших массу книжек, заявила когда-то, что им удалось схватить истину в виде законов исторического развития. Они, стало быть, узнали, что всем надо делать, ибо истина у них в кармане. А коль так, то они считали себя вправе вести всех туда, куда эти все идти вовсе не хотели. Они смеялись над демократией, полагая, что избранны не людьми — слабыми и ошибающимися, а самой Историей. Что из этого вышло, известно.Известно также, что вышло, когда демократическим путем к власти пришел Гитлер. Уж он-то умел убеждать. Говорит ли этот факт против демократии? Вспомним изречение Черчилля: демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных.
P.S. Три месяца тому назад в редакции «Дня» была установлена скамейка философа. Не кресло, заметьте, и даже не один из двенадцати стульев, просто скамейка. Впрочем, я согласился бы и на табурет. Итак, писатель пишет, читатель, надеюсь, читает. А писателю хотелось бы знать: что при этом читатель думает? Какие у него имеются, как говорят, критические замечания. Короче, диалогу хочется! Для желающих вступить сообщаю адрес: shkoda@univer.kharkov.ua
Выпуск газеты №:
№88, (2001)Section
Общество





