Владимир РИЗУН: «Формирование массового сознания — тонкая вещь»
Недавно назначенный директор Института журналистики реформирует учебную программу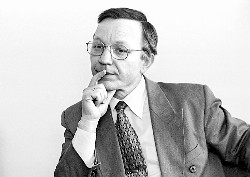
Доктор филологических наук, профессор Владимир Владимирович Ризун, ныне — директор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, работает в этом учебном заведении с апреля 1984 года. Сначала как преподаватель кафедры языка и стилистики, потом — кафедры журналистского мастерства (которую возглавлял с 1996 года). Его предшественник на нынешней должности Анатолий Захарович Москаленко начал руководить факультетом журналистики (впоследствии Институтом) на полгода раньше — с сентября 1983-го. Методы воспитания Москаленко будущих «специалистов пера» Владимир Владимирович мог наблюдать, что называется, изнутри. При Москаленко современная украинская журналистика прошла основные этапы своего становления — от однопартийной заангажированности через перестроечную эйфорию вседозволенности к теперешнему процессу постепенного осознания как возможностей, так и ответственности «четвертой власти». На протяжении всего этого переходного периода Анатолий Захарович из года в год ставил свою подпись на дипломах выпускников факультета. У шестнадцати выпусков журналистов должность директора Института журналистики ассоциируется с этой неординарной личностью. Поэтому не удивительно, что личность нового руководителя Института журналистики вызывает интерес всех СМИ. И дело тут не только в воспоминаниях о прошлом, но и в расчетах на будущее — какие новые специалисты придут в редакции? Недавняя публикация «Зеркала недели» рассказала про перемены в Институте журналистики с точки зрения студентов, их проблем. Нас же больше интересовал Владимир Владимирович как личность с определенным мировоззрением, которая, конечно же, будет влиять на то, что происходит и будет происходить в стенах этого учебного заведения.
— Институт журналистики при Анатолии Захаровиче Москаленко был известен особой демократичностью: в первую очередь, в значении «практикума» студентов по свободомыслию, незашорености мнений. Что будете культивировать вы?
— Тоже свободомыслие в значении «свободно думать», но обязательно думать. Больно, когда наши выпускники свободно мыслят, но при этом они не думают, что говорят, и не думают, когда говорят. Кстати, не всегда нужно говорить то, что думаешь. Талант журналиста, если хотите (скажу парадоксальную вещь), не в думании, а в говорении! Поэтому буду культивировать свободомыслие и сдержанность в говорении.
— А что вы считаете главным из того, с чем институт старается выпускать студентов в жизнь? На чем будете делать акцент в обучении?
— Мы будем основной акцент делать на профессионализме. В учебном плане будет много дисциплин профессиональной направленности, которых не было раньше. Они касаются особенностей сбора информации, методов, технологии сбора информации, информационного анализа, интерпретации фактов, наконец, построения текста, подготовки издания. Вся деятельность средства массовой информации заключается в том, чтобы дать окончательный продукт: газету или тот же текст. И нужно учить, как его делать. Невозможно сделать велосипед, не зная, что такое велосипед. Нельзя написать текст, не зная, что такое текст. Мы будем уделять особое внимание предметам, раскрывающим понятие влияния средств массовой информации на массовое сознание. Для чего существуют СМИ? Для того, чтобы влиять на массовое сознание — иного назначения нет. Просто информировать? А зачем? Как говорил основатель психолингвистики Алексей Леонтьев: «Язык — не самоцель. Язык — средство, оружие достижения цели». Если человек просто так говорит, то можно подумать, что он ненормален. Нормальный человек знает, для чего он говорит. И поэтому коммуникативные цели должны быть четко определены. Студенты как будущие специалисты должны знать, как достичь этой цели. И тут встают вопросы не только воспитания или пропаганды, но и вопрос манипуляции сознанием, возможно, зомбирования. Но мы при этом должны знать, что хорошо, а что плохо.
— За счет чего вы планируете увеличить долю этих дисциплин в учебном плане?
— За счет сокращения социально- гуманитарного цикла. Учебными планами, предусмотренными Министерством образования, отводится около 20% учебного плана под социально-гуманитарные дисциплины. Так случилось, что у нас этот блок вышел очень расширенным. У нас очень много дисциплин экономико-финансового направления. Это нужно, но мы не институт экономики и финансов. Мы Институт журналистики, и мы должны готовить специалистов, влияющих на массовое сознание. Конечно, было бы неплохо, если бы эти специалисты, эти журналисты имели второе образование — экономическое, юридическое. Такое сочетание идеально. Но мы должны четко осознавать, что журналистское образование состоит не в изучении экономики, культуры, просвещения, а в изучении того, как влиять на массовое сознание средствами массового информирования. Я и говорю на курсе литературного редактирования, что редактор должен уметь отредактировать текст, даже если он не разбирается в вопросе. Потому что в тексте есть закономерности логического порядка, которые не замечает даже специалист. Кстати, у нас открыта вторая специальность, которая называется «издательское дело и редактирование».
— Можно предвидеть, что ваше акцентирование на том, что студентов нужно учить именно влиянию на массовое сознание, многие воспримут неоднозначно. Насколько «в теме» выпускники института в вопросах и проблемах свободы слова, правовых аспектах ее обеспечения? К чему, по вашему мнению, более всего готовы выпускники: к конформизму или нонконформизму?
— Старым учебным планом предусмотрен курс законодательных основ деятельности СМИ. Готовы ли наши студенты пройти между Сциллой и Харибдой и раскрыть актуальные темы, которые бы свидетельствовали о том, что у нас есть свобода слова? Мне кажется, что это еще и вопрос опыта, профессионализма, который шлифуется уже на производстве. Вообще-то, когда говорят о свободной прессе, то я к этому отношусь очень осторожно. И рассматриваю это с позиции теории языковой деятельности. Язык, коммуникация определяются конкретными факторами. Нормальные люди в быту всегда являются рабами социальной ситуации, рабами того, где, с кем и когда происходит разговор. А почему же мы, когда говорим о СМИ, хотим сделать их какими-то ненормальными спикерами? Средства массовой информации так же, как и люди, зависимы от социальной ситуации. Поэтому слово, пресса всегда зависят от ситуации. Всегда. И не нужно строить заоблачные планы, что будет когда-то у нас просто свободная пресса. От кого и чего свободная? — от государства? Но как можно жить в государстве и быть независимыми от государства? Может быть свобода в границах законного. Свобода вне закона? Моя свобода начинается там, где заканчивается влияние закона? Беда в том, что мы толкуем свободную прессу как противодействие закону, как будто назначение свободной прессы — бороться с государственной. Но дело не в этом. А в том (это я уже перед читателями раскрываю секреты журналистской кухни), чтобы повлиять на людей, изменить их сознание, следуя законам. В этом журналистское мастерство. Это конформизм или нонконформизм? Как хотите, так и называйте. Когда ваш собеседник, улыбаясь, следуя морально-этическим и правовым нормам, убеждает вас, то кто он — конформист? Ваш собеседник свободно владеет словом, свободно выбирает средства влияния на вас. Вот это и есть его свобода.
— Какие же тогда принципы журналистики вы считаете основными?
— Главным является все-таки ощущение времени, ощущение социальной ситуации, о которой я говорил. Ощущение социального пространства, ощущение тех социальных ролей, то есть, людей, нас окружающих. Если такое ощущение есть, то, мне кажется, журналист тогда является профессионалом. Он тогда знает, как обойти деликатные вопросы. Он никогда не будет бить в лоб. Мы должны стать дипломатами. Формировать массовое сознание — ведь это очень тонкая вещь. Это нужно делать так, чтобы люди и не знали, что мы это делаем. Это нужно делать, возможно, на уровне подсознательного.
— Насколько ваши студенты будут готовы честно использовать такие свои навыки?
— Настолько, насколько мы их воспитаем. Конечно, нужно, чтобы наши специалисты были окрылены национальной идеей. Чтобы они были на позициях построения государства, руководствовались морально- этическими принципами. Тогда наше влияние на массы будет положительным. Никто так не влияет на людей, как журналисты, поэтому очень важно, какой личностью является журналист. В этом плане мы должны работать над каждым студентом.
— Сейчас мир, в который вступают выпускники, стремительно меняется. Насколько они готовы к постоянным переменам, овладению новыми технологиями, техническими средствами, подходами к информации?
— Тут существуют определенные проблемы. Конечно, мы должны быть технически и технологически оснащены таким образом, чтобы подготовить специалиста соответствующего уровня. К сожалению, как и другие учебные заведения, не всегда можем продемонстрировать последнее слово техники. Но у нас есть компьютерный класс, сканеры, лазерные принтеры, цифровой фотоаппарат, видеокамеры, фотолаборатория. Компьютеры подключены к Интернету. Во всяком случае, азы мы можем дать.
— Как сейчас студенты проходят практику?
— Наши студенты проходят практику в СМИ и в издательствах. Мы аннулируем летнюю практику, которая неэффективна, и включим ее в учебный год. То есть, скажем, в феврале занятия приостанавливаются и студенты выходят на 2-3-недельную практику. Они будут постоянно под присмотром преподавателя. И студенты более эффективно будут знакомиться с редакционным процессом, чем тогда, когда летом они разъезжаются по домам, лежат на пляжах и привозят нам замечательные отчеты.
— Какие черты, по вашему мнению, характеризуют поколение будущих журналистов?
— Время накладывает свой отпечаток на студентов. Жизнь сложная. Экономически и, возможно, морально. И это не может не отражаться на психологии, на поведении студентов. Студенты ринулись в бизнес. Они зарабатывают на жизнь. Пропускают занятия. Наша задача — найти золотую середину. Современный студент-журналист иногда не до конца понимает свою миссию, увлекается погоней за мелкими темами, сенсацией. Сенсация — это прекрасно, но нужно осознавать, что она существует в определенном информационном поле, и любая деталь, появляющаяся в газете, воспринимается читателями как типичная. Кроме того, есть вещи, о которых нельзя говорить. Студенты не всегда чувствуют эту грань. Они пытаются выплеснуть всю правду на страницы газеты. А что вы скажете о таком человеке, который бьет себя в грудь и уверяет, что он всегда говорит всем правду в глаза? Наверно, вы очень осторожно отнесетесь к этому человеку. Вот это и есть тот отрицательный момент, который я отметил бы. А положительно то, что студенты очень тонко чувствуют время, и они понимают, что современная журналистика в какой-то степени бизнесовая, понимают, что нужно делать, чтобы издание было интересно читателю, чтобы его покупали. Во всем мире существует информационный бизнес, даже специальные дисциплины читаются об этом. Газета может выжить, стать массовой тогда, когда коллектив редакции над этими вопросами работает.
— О чем бы вы хотели сказать себе: «Я рад, что я сделал это» через 100 дней после вашего директорства, через год, через пять?
— Я буду рад, если удастся выстроить такой учебный план, который понравится студентам, выпускникам, о котором будут отзываться в СМИ, что здесь действительно готовят профессионалов. Я буду рад, если конкурс на наши две специальности возрастет от 3— 4 человек на место до 10—15.
Выпуск газеты №:
№39, (2000)Section
Общество





