Языком отлученных сущностей
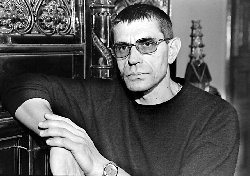
«У НАС СУЩЕСТВУЕТ УМЫШЛЕННОЕ НЕПРИЗНАНИЕ КРАЕУГОЛЬНЫХ ОСНОВ ВЕКОВОЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ КУЛЬТУРЫ»
— Общепризнанно, что ваш стиль письма довольно сложен для чтения и восприятия. Что побуждает вас писать именно так?
— Мне уже многократно приходилось слышать то, что прозвучало в вопросе... Раньше я относился к этому открыто, искренне и серьезно и думал: «Может, и действительно что-то такое есть?..» Но когда эта нота постоянно звучит на одном уровне (на всех уровнях), я сказал себе: «Что-то здесь не так!» Что, собственно, имеется в виду, когда академические ученые, независимые критики или коллеги-писатели упрекают в сложности, непонятности? И я пришел к очень смешным выводам. Неужели писатель сегодня может выдумать такой язык, такой стиль, чтобы это было непонятно остальным гражданам Украины? Бытовой язык может быть очень примитивным: пошел туда, принес то. Но есть скрытый внутренний язык — и индивидуальный, и коллективный. Человек просто не признается в том, что в своих снах, видениях он мыслит и говорит совсем другим языком. Это я называю внутренним языком или языком отлученных сущностей. И каждая из этих сущностей живет будто автономно в мире — параллельно друг другу, друг друга отрицает и каждая из них владеет своим языком. Возможно, мне удалось уловить этот почти сумасшедший язык, существующей вне реальности и вне подсознания каждого человека. Я убежден в том, что не только наш народ, но и весь мир сегодня находится именно в таком состоянии — тихого, милого сумасшествия. Отсюда все эти выбросы показательной энергии, деятельности: для того, чтобы замаскировать эту беспомощность перед хаосом. Мир сам по себе не может быть хаосом, как и космос — хаос сотворил сам человек. Вот откуда эта сложность, все остальное, как говорил Стефаник, — литература.
— Нельзя ли сказать, что это «трудновосприятие» ваших текстов обусловлено интеллектуальной ленью людей, привычкой к определенным схемам, нежеланием концентрировать усилия?
— Ответ на этот вопрос мог бы растянуться на несколько газетных полос. Здесь вспоминается один философский труд, с которым я недавно имел дело. Вычитал там много интересных фактов: китайский император Цинь Ши Хуан, который жил в третьем веке до н.э., по совету придворного философа Ли Сы, преследовал конфуцианцев. Несколько сотен из них уничтожили — одним из наказаний было закапывание в землю живьем. Конфуцианцы исповедовали традиционную нравственность, возвеличивали дух предков, то есть их учение отстаивало и напоминало каждому поколению китайцев о каких-то великих деяниях; вместе с тем, оно предостерегало от взяточничества, было тесно связано с политикой — это не некое умозрительное философствование. Таким образом оно представляло угрозу для конкретного правителя и для господствующей верхушки. В то же время, этот же император, Цинь Ши Хуан, объединил Китай, руками подданных построил Великую Китайскую стену... Исходя из этого примера, я иногда думаю, что дело не в правителях, и не в философах. Дело в придворных советниках. И все же?..
Так же и в наше время, когда кто-то берется отстаивать традицию, напоминать о великих классиках, он встречает, повторяя вслед за А. Камю, «крики ненависти толп» (из романа «Посторонний»). Корпоративных толп, потому что это не народ вопит — это понятие на сегодня уже несколько устарело — имеются корпоративные объединения, разделяющие нацию. Не созданы новые мифы, символы. Очень ожесточенно воспринимается украинское конфуцианство, — я не адепт и не идеолог этого учения, просто считаю нужным напоминать о таких вещах. У нас существует умышленное непризнание краеугольных основ вековой непрерывности культуры. В эпоху, когда язык интеллектуальных отморозков становится все более убогим, «американизируется», писатель неминуемо прибегает к так называемому сложному языку. И за это его никто не должен осуждать.
— Видите ли вы, как автор, своего читателя, или скорее исповедуете декадентский принцип «искусство для искусства»?
— Этот самый интересный и самый трудный вопрос. И сколько мне приходилось слышать и читать ответы писателей на подобные вопросы, кажется, на него никто так и не ответил, хотя бы немного приближенно к своим убеждениям. Каждый писатель или апеллирует к какой-то категории читателей, или к какой-то ситуации, и никто, собственно, не угадывает. Я, очевидно, тоже не угадаю. Вся проблема в этом языке — за ним стоит еще более древняя проблема, которая нашла определенное онтологическое решение в нашем времени: украинская неопределенность между городом и селом, между имперским центром и провинцией. Об этом когда-то еще Шпенглер писал. У нас не возникло это понимание. Город, высосав определенную культуру, этническую мощь, рабочую силу, и впредь остается на каких-то загадочных мифических позициях и не хочет признавать своего «спонсора» — оставаясь дояром провинции, пренебрегает ей.
«ЧЕЛОВЕКОМ ОВЛАДЕВАЕТ ВПОЛНЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ СТРАХ»
— Давайте все-таки вернемся к литературе. В прошлом году была основана премия «Стиль от Медвидя». Что это и какова ее судьба?
— Действительно, ассоциация «Новая литература» по случаю моего 50-летия учредила такую премию. Мне был вручен диплом, что я являюсь первым лауреатом премии «Литературная премия «Украинский стиль», которая в дальнейшем будет именоваться им. В. Медведя» и будет присуждаться ежегодно по различным номинациям.
— Ваш роман «Кров по соломі» был среди произведений, которые не обошла вниманием Национальная программа поддержки социально значимых изданий. Как вы относитесь к этому факту?
— Я из тех писателей, которым не удается заручиться поддержкой определенных международных фондов и корпораций. И я упрямо все эти одиннадцать лет, может несколько по-ретроградски, уповал на какие-то государственные программы, много лет обращался в Госкоминформ. За то время, пока я писал свои просьбы включить «Кров по соломі» в эту программу, сменилось три его руководителя, и только при Иване Драче мне удалось попасть в эти анналы: две тысячи экземпляров книги у «Кальварии» закупили для распространения по библиотекам. Но издательство не ограничилось этим тиражом — я видел книги в магазинах, хотя выгоды с этого никакой не имею. И вопреки многим мнениям и даже истерическим крикам, что «государство не должно вмешиваться в издание», я все- таки доволен ситуацией, — государственная система книгопечатания должна укрепляться и распространяться, действовать наряду с другими формами. Роман, как творческий акт, всегда тянет на государственническую миссию. Достоевский своими романами в большей степени послужил развитию Российской империи, нежели многие тогдашние реформаторы.
— Как автор дневников «Философія страху або проклятий народ» и внимательный наблюдатель жизни сегодняшней, какие общие страхи людей вы бы выделили среди множества исключительно личных фобий?..
— Я действительно об этом много писал, но никогда не пытался обобщать свой опыт, потому что это бы мне предвещало судьбу не так писателя, как аналитика и философа. А я не хотел бы превращаться в аналитика. Поэтому подобные мысли рассыпаны по некоторым моим книгам, в частности, в упомянутых «Дневниках». Подходил к этому с различных сторон, пытался отбрасывать будничные страхи. Меня больше интересовало все это в онтологическом или мифологическом смысле. То есть я говорил о том, что современный человек, если речь идет об украинце, с древности исповедовал определенную толерантность сосуществования, скажем, с демоническим миром. Украинская демонология представляет нам демонов и в лице смерти, и нимфы, и ветра, и многих природных явлений. Поэтому в нашем понимании демоны — это не просто какие-то страшилища вампирского образца. За несколько последних веков человек по определенным причинам порвал с этим миром, перейдя в атеистическое измерение, тем временем демоны зажили какой-то другой параллельной жизнью. Человек будто избавился какой-то определенной сущности, которая включала вот эти предостережения, комплексы, верования. Теперь человеком овладевает вполне цивилизационный страх. То есть метафизический страх измельчал, и в то же время человек начал ощущать, что тот демонический мир, который он отверг, пристально следит за ним, живя самостоятельной жизнью, и может в определенных моментах наказывать за неосмотрительность и отступничество... Теперешняя цивилизация породила новых демонов, но время их «фолклоризации» еще не наступило.
— Что такое «житомирская прозаическая школа», к которой вас причисляют?
— Учитывая определенную «онтологическую» усталость, я уже не придаю значения таким вещам, которые раньше имели определяющий смысл не только для меня, но и для определенного процесса. Эта усталость обусловлена нежеланием вмешиваться в какие-то животрепещущие моменты, спорить, дискутировать. Стало понятно, что в целом культурная ситуация у нас слишком низкая и не готова к дискуссионному пылу. Напоказ декларируется необходимость дискуссий — «ой, критикуйте меня!». А на самом деле, все это воспринимается с каким-то мещанским оскалом. При такой ситуации любая критика выглядит смешной. Я пришел к выводу, что наша литературная ситуация очень нездорова — больна по существу, амбициозна. Учитывая это, она, не признавая самого идеала и методов критики, не достойна того, чтобы о ней говорить слишком серьезно... Феномен этих «школ» возник на эйфорической ноте, так же, как возникали в свое время различные ассоциации и литературные группировки, большинство которых сегодня рассеялись и захирели. Существование школы требует серьезных обоснований, исследований. Школа — это определенная традиция в измерениях исторического времени, это учителя и ученики, это принадлежность, уважение и самоуважение. Злобным и бесталанным здесь нечего делать.
— Вы председатель Всеукраинской приемной комиссии Национального Союза писателей Украины. Как много желающих сегодня попасть в ряды Союза?
— Вопреки существующей нигилистический ноте относительно НСПУ, в частности, из числа тех, которые перешли это членство и одной ногой еще находятся здесь, или же в отдельных случаях отреклись, могу заявить официально, что желающих вступить в Союз в течение последнего времени чуть ли не больше, чем было 2-3 года назад. В Союзе сменилось руководство, немножко ужесточились условия приема, некоторые бюрократические моменты устранены, наподобие того, что где-то там в обрусевшем крае живет патриот, которого нужно обязательно принять в Союз, а он пишет убогие стихотворения (это раньше практиковалось). Из 100 дел, которые рассматривались на весенней Приемной комиссии, было утверждено только 40. Но все эти претенденты еще должны пройти Президиум Союза.
— Есть ли какие-то ограничения на вступление, скажем, языковые?
— Язык никогда не был и не является ограничением. Хотя этот миф активно распространяется в прессе. Так в последнее время членами Союза стали 10 молодых русскоязычных писателей по сокращенной процедуре. Некоторые говорят, что их не принимают в Союз потому, что у них «неправильная» национальность. Иногда поступают письма с просьбой рассмотреть дело вне Приемных комиссий (несколько таких писем я рассматривал недавно), «потому что меня здесь не понимают» или «потому что я пишу на русском» и т.п. Это реальные факты — здесь ничего не поделаешь. На прошлой комиссии мы рассмотрели дело из Крыма — писательница пишет на крымскотатарском языке. Мы обратились к писателям, которые дали профессиональную оценку и выступили на Приемной комиссии. Так же мы готовы рассматривать произведения на всех языках, на которых издаются книги в Украине.
«ПИСАТЕЛЬ БОИТСЯ ПОГРУЗИТЬСЯ В БОЛОТО ЖИЗНИ»
— Положа руку на сердце, как бы вы определили коэффициент полезного действия этих 1800 членов НСПУ? Сколько из них является реальными участниками литературного процесса, а сколько пассивными членами престижного клуба?
— Я думаю, что не стоило бы это так толковать. Нет связи между количеством членов Союза и качеством продукции, которую они создают. Так же можно сказать о какой-то независимой творческой ассоциации, куда входят пять человек. Можем ли мы утверждать, что они все гении и демонстрируют более высокий уровень, чем члены Союза в каком-то среднеарифметическом измерении? Есть определенная предубежденность к этому и она неправдива.
— Но есть мнение, например, лауреата Шевченковской премии Евгения Пашковского, который ратует за переаттестацию Союза...
— Это продолжение той традиции, которая еще в начале 90-х была инициирована Евгением: коллаборантство, пересмотр деятельности Союза и отдельных его деятелей. Речь идет, собственно, не столько о писателях, как о политических деятелях, которые несли ответственность за репрессии и т.д. Но эта идея не была поддержана обществом — как известно, у нас не осудили ни коммунистов, ни коллаборантов. Наоборот: как помним, диссиденты и коллаборанты объединились «во имя построения Украины». Я всегда был против такого объединения — считаю, что диссидент всегда должен оставаться диссидентом и, даже когда страна процветает, он должен находиться в оппозиции.
— А как же тогда быть с Вацлавом Гавелом, который был опальным писателем, а стал президентом целой страны (Чехии)?
— Я думаю, что став президентом, он остался диссидентом на более высоком уровне, чем был раньше. Его диссидентство помогло ему воплотить определенные идеалы, навести порядок и укрепить благосостояние в государстве. Вместо этого наши диссиденты оказались на пенсиях, при каких-то мелких должностях и утратили свой образ оппозиционеров. Но я не собираюсь это осуждать... Ну, представьте, что завтра в Союзе в качестве членов останутся 50 человек. Самых гениальных. Но ведь остальные будут так же работать, издавать книги... Так же можно критически относиться к социалистическому способу книгопечатания в Швеции — то, что мы потеряли, они продолжают... Эта идея в своем корне правдива, но она слишком близка к идеализму, который сложно воплотить. Лично я не представляю, как это конкретно сделать. Какими-то «силовыми» мерами этого не осуществить. Должен осуществиться естественный отбор способом «войны текстов»...
— Почему же в нашей писательской среде так тихо: писатели существуют сами по себе, читатели сами по себе. Практически никакого трения между ними не происходит. Ни дискуссий, ни споров...
— Об этом немного говорят, но все сводится к какой-то меркантильности: народ обнищал и не может купить книгу, издательская система развалилась, писатель перестал зарабатывать своим трудом... На самом деле, мне кажется, сами писатели несут самую большую ответственность за эту пустыню. В начале 90-х я, преисполненный романтизма и опыта других мировых литератур, иногда в прессе нахально заявлял: молодые писатели должны написать хотя бы несколько десятков толстых романов, что- то наподобие семейных или исторических эпосов. На самом деле этого не произошло. Почему я так считал? Потому что ссылался на опыт латиносов, где взрыв произошел за счет так называемой диктаторской тематики. Чуть ли не каждый выдающийся писатель того региона написал роман о диктаторе. Это была очень горячая тема. В Украине не нашлось подобной горячей темы. Писатели у нас по инерции остались филологами советской закалки. И они не нашли мужества признать в себе это. Наиболее интересны образцы у нас филологические, мелосно-украинские, и они не убедительны для массового читателя. Пишут предложениями-карамельками, чтобы было грамотно, выдумывают какие-то ужасы, секс, которого они, собственно, никогда не пережили, какие-то убийства, которые увидели в телевизоре.. То есть, сама житейская бытийная насыщенность не нашла адекватного отражения в слове, предложении, стилистике. Язык может мстить своим носителям, если они не по-хозяйски распоряжаются его возможностями.
— Возможно, просто не хватает смелости, ведь есть, например, реальная история с Оноприенко, который порешил более полусотни людей? Почему не написан роман или не снят фильм?
— Думаю, что писатели поражены тем онтологическим страхом, о котором мы говорили в начале разговора. Писатель боится погрузиться в болото жизни — он знает, что это будет пахнуть социальностью, народностью, еще чем-то. Отбросив все эти вещи, писатель оказался в таком состоянии, когда он может писать только о своих камерных переживаниях и о том, что видит за окошком. Это сначала было интересно — это было сопротивление советской кондовой литературе, но нормальная литература не может десятилетиями питаться этим. Это началось с отрицания всех постулатов соцреализма — «мы постмодернисты!» А на самом деле каждая здоровая литература вооружалась агрессивностью, погружением в плоть даже агонизирующего организма нации... Поэзия наша сейчас имеет высокий цивилизационный уровень — какой-то школьник может писать на высоком версификационном и мысленном уровне, но очень мало солидной крутой прозы, тем более больших объемов. Все ограничивается новеллистическими творениями. Над серьезными романами и дальше работают писатели старшего поколения.
Выпуск газеты №:
№166, (2002)Section
Общество





