Антиконкуренция
Партийная борьба в Украине происходит тет-а-тет,без посредничества избирателей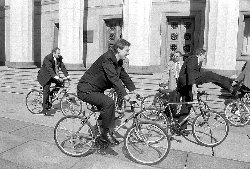
В украинских политических элитах и среди экспертов популярен тезис о том, что страна нуждается в модернизации своей политической системы и приведении ее в соответствие с требованиями развития общества, что подразумевает повышение роли партий. Путь к этой модернизации, как заявил в понедельник, выступая перед дипкорпусом, Президент Леонид Кучма, проходит через принятие парламентом законов о политических партиях и оппозиции, а также о внесении изменений в избирательное законодательство. Новый закон о выборах, вынесенный на второе чтение, кстати, предусматривает выборы в парламент по партийным спискам.
ПАРТИИ — ЭТО НЕ БОЛЬНО
Под партией обычно подразумевается организация в социуме, цель которой — участие в системе управления общества и взятие на себя ответственности за результаты деятельности этой системы. Таким образом, главная задача партии — завоевание власти, участие во властных структурах. Партии появляются на определенном этапе развития общества и выполняют определенные функции. Их появление связано с возникновением мощных экономических групп, которые обладают финансовой мощью и могут позволить себе «дополнительные расходы». Но при этом они не обладают «голосом», который позволяет влиять на правила функционирования этого общества, а это тормозит увеличение прибылей. В такой ситуации функция партий заключается в том, чтобы быть медиаторами между различными группами интересов. Главное — способствовать, чтобы отношения между этими группами выяснялись не напрямую, а через относительно самостоятельных посредников — общество уже может позволить себе такую роскошь.
Таким образом, партии — это инструмент лоббирования политических интересов отдельных групп людей, отстаивания ими своей позиции среди других групп общества. С их помощью возможно эффективное развитие общества на условиях взаимосотрудничества, баланса интересов этих групп. Партии, как основной элемент функционирования партийной системы, могут быть различного устройства и сложности. Главное, социум должен быть организован таким образом, чтобы его устройство предусматривало участие политических партий в системе выборной государственной власти. Они должны быть допущены к реальному управлению, т.е. влиять на государственную власть и на принятие ею решений. Партии призваны проводить публичную политику, чтобы эффективность результатов предлагаемого ними курса могли оценить все. Для этого, как известно, и существуют выборы.
Довольно распространенное у нас мнение о том, что партии — показатель демократии, привело к тому, что их создание превратилось в самоцель. Однако по количеству партий не судят о демократичности общества. Такие суждения скорее свидетельствуют о компетентности и глубине анализа таких экспертов. На самом деле демократичность определяется устройством общества, учитывающим особенности его конкретного исторического этапа развития (когда-то и монархия была прогрессивным явлением).
ДАЙТЕ ИМ ПОЛИТПРОСТРАНСТВО
Некоторые политики сегодня утверждают, что как только уровень политической структуризации общества позволит перейти к выборам на партийной основе, это можно будет сделать. (Правда, при этом не объясняется, кто будет определять этот уровень.) Однако общество не может быть политически структурировано по той причине, что оно являет собой многомерное образование, включающее многие сферы жизни, в котором этот критерий не является системообразующим. Посему это утверждение говорит лишь об особенностях мышления этих политиков. Возьмем такую сферу общественной жизни, как экономика. О какой политической структурированности экономики можно говорить на Западе? У нас же политик может непосредственно вмешиваться в экономическую судьбу конкретных предприятий. И связано это, прежде всего, с тем, что бизнес делается на бюджете, который расписывают политики. А потому его принятие не экономическая, а политическая задача — кто получит финансовое содержание.
Поэтому, когда говорится о политической структуризации общества, то, по сути, говорится об иерархии и связанной с этим очередности допущенных к кормушке, к госбюджету — к тому, что должно отражать приоритеты общественной жизни. А у нас экономические (они же политические) приоритеты допущенных к телу (хотел сказать делу, хотя разницы никакой). Высокие цены на горючее в Западной Европе заставляют забыть нарушения прав человека в Чечне и приводят к экономическому сотрудничеству России и ЕС. Экономические интересы американских предпринимателей почти всегда превыше всего, т.е. и в том и в другом случае, экономические интересы общества превалируют и определяют проводимую политику, а не наоборот, как кому-то у нас хочется. В том-то и заключается основная проблема, что в Украине нет достаточного количества собственников, которые смогут и будут отстаивать политические интересы, а для всех это своя собственность, в борьбе с государственной монополией. Именно экономика обеспечивает существование общества, а задача политиков — эффективное управление наличными ресурсами (при котором население сможет не только выживать), а не указания, что и как производить, кому и по каким ценам продавать.
Некорректно также говорить и о политической структуризации системы ВЛАСТИ, как политического пространства. Вначале должно произойти выделение компонентов этой системы, с помощью которых реализуется функция управления. Затем необходимо установить существующие между этими компонентами координационные и субординационные связи, увидеть особенности их взаимодействия. Таким образом, речь идет о построении некоего скелета политического пространства, его структуры, что называется структурацией.
Отдельные компоненты политической структуры появляются на определенном этапе развития общества. Вождь первобытного племени вполне справлялся с руководством сам. Но, однако, уже при монархической власти возникла необходимость в независимом арбитре, роль которого взяла на себя судебная власть, которая могла ограничить абсолютный произвол одного человека, способного казнить или миловать, произвольно менять законы. Аристократы не позволяли себе, чтобы кто-то мог судить их, кроме них самих, даже король. (Не потому ли ныне и подкидывается Президенту идея о двухпалатном парламенте, чтобы губернаторы могли не зависеть от его воли?) Развитие индустриального общества привело к появлению среднего класса, который не устраивали постоянные законы, не учитывающие изменяющиеся обстоятельства. Это обусловило появление независимой законодательной власти. Таким образом, произошло историческое разделение функций в этой сфере управления обществом. В развитом индустриальном обществе предлагается система ВЛАСТИ, состоящая из трех компонентов, и олицетворяемая государством. При этом четко определены объем функций ВЛАСТИ и ее место в обществе, а также ее строение и правила устройства.
Номинально все три ветви власти, точнее их симбиоз, имеем и мы, но практически все решения, требующие исполнения и проведения в жизнь, принимаются в одном месте. В нашем обществе практически нет независимых политических институтов.
Уровень развития производительных сил в отдельных отраслях в стране достигает нормативов информационного общества. А вот уровень организации общественной жизни соответствует феодальному строю, то есть от развитого социализма мы перешли к развитому ... феодализму. В то время партии были не нужны, и можно понять государственных чиновников, наместников в областях — а зачем им нужны партии, если есть воля первого лица.
У нас государственная ВЛАСТЬ, как система управления обществом в зародыше, и это отражает объективное состояние нашего общества. В результате скрещивания средневековой системы управления и новых производственных технологий государство вмешивается в производственно- распределительные процессы, что ведет к напрасной трате ресурсов, коррупции и, в конечном итоге, приводит к апатии народа и снижению самоорганизационных возможностей общества.
Однако можно и нужно говорить о политической структуризации в системе выборной власти, и в первую очередь речь идет о парламенте, который призван отражать интересы и силу различных групп, имеющих капитал (финансовый, в первую очередь). А для отражения этих интересов, для выяснения отношений цивилизованным способом, а не только один на один, или «банда на банду», и придумано такое средство, как партии. В этом контексте структурирование подразумевает упорядочивание объектов (партий как самостоятельных единиц) этой системы в определенные группировки, объединения и иерархию этих группировок.
Нам, безусловно, необходим структурированный парламент. Но его эффективные действия возможны лишь после структурации политического пространства, определения функций действующих там субъектов (ветвей власти), т.е. того же парламента в частности. Переходный период требует сильной ВЛАСТИ, сконцентрированной в одних руках, ее монополизации одной политической силой. Кстати, это утверждают представители Президента, его сторонники и с этим нельзя не согласиться. Другой вопрос, что система ВЛАСТИ включает в себя не только властную вертикаль, но и развитую структуру. И вдобавок, политики, претендующие на монопольное положение, должны быть достаточно сильными, чтобы в конкурентной публичной борьбе доказывать свое преимущество.
ПАРТИЯ И партии
В настоящее время в Украине ни одна партия не может с уверенностью сказать, что она опирается на конкретные социальные группы. Это объясняется тем, что механизмы политической ответственности не вошли в число атрибутов деятельности этих партий. Что, в свою очередь, приводит к снижению уровня доверия не только к конкретным партиям, но и к партийным структурам как способу регуляции общественной жизни в целом. К тому же, когда была одна партия, все было ясно и был порядок, а сейчас, попробуй, разберись, кто прав, кто виноват, все говорят одно и тоже. Недавно в средствах массовой информации прошла дискуссия о способности наших партий быть интеллектуальным проводником украинского общества. Может ли хоть какая-нибудь из множества имеющихся партий заявить о себе что- нибудь подобное? Впрочем, сказать-то может, а вот соответствовать сказанному...
Грядущие парламентские выборы уже сейчас вызывают оживление активности некоторых политических партий. Многие политологи уже приступили к обсуждению их шансов по сравнению с другими, их возможности привлечь различные группы общества своими программами, видеоклипами, рекламой, т.е. имиджем, хотя, в общем-то, предъявлять, по большому счету, нечего — реальных результатов деятельности партий не замечается. При этом, основываясь, в основном, на западном опыте демократии, провозглашается их главенствующая роль в строительстве гражданского общества.
С другой стороны, на истинную эффективность их функционирования указывает тот факт, что Президент, в свое время, так и не рискнул опереться ни на одну из существующих политических партий. Он доверил всю работу по организации прихода к власти команде, которая, по его мнению, единственная способна показать свой товар лицом и может, как показывает практика, добиваться результата — брать власть.
Это уже стало нормой, что в нашей стране вещи не всегда называются своими именами. Отдельные группы, клубы по интересам (экономическим и личным) и др. называют политическими партиями. А реальную политическую силу, которая одна действительно стремится к власти и ее удерживает, которую и следовало бы назвать политическим движением, организацией, т. е. Партией, мы называем совсем по-другому.
Администрация Президента имеет свою четкую вертикальную структуру — повторяя уже имеющуюся в нашей истории систему управления государством. Не так-то просто оказалось изменить организацию деятельности, имея предыдущий опыт работы, даже если образцы демократического управления не только находятся перед глазами, но и провозглашаются как образец для подражания. Руководить из одного центра и привычней, и надежней, и спокойней (но эффективней ли?). Теперь понятно письмо руководителей регионов, уже попавших в эту Партию, о запрете вхождения глав государственных администраций в состав других партий. Принадлежность к другой организации может быть воспринята как демонстрация своей нелояльности, выражение недоверия организации Первого лица (а если он вдруг захочет определиться со своей партийной принадлежностью, то не придется ли быстренько менять партию). Зачем им журавль демократического партийного устройства общества в небе, если власть уже в их руках?
Итак, есть у нас сила, способная не столько управлять обществом, а сколько навязывать себя. Ей не нужны громкие фразы, не обязательно использовать название «партия» (ей эти сантименты не к лицу). Ей нужна конкретная власть, которую она имеет и которой пользуется. Попробуем приблизительно оценить ее ресурсы на выборах на примере референдума. Как мы можем убедиться, просмотрев подшивки газет, организации, проводящие социологические опросы, прогнозировали явку порядка 62—64%. Опубликованные после референдума официальные данные свидетельствовали о 88% посещении участков для голосования. Не вызывает сомнений профессионализм социологических организаций, и это неоднократно подтверждалось во время и президентских, и парламентских выборов, поэтому полученные результаты не могли сильно отличаться от прогнозируемых. Разницу в прогнозах и действительным количеством пришедших в 2—4% можно объяснить всегда, с точки зрения конкретной методики проведения опроса, имеет место и ошибка измерения. Возрастание разницы до 7—10%, кроме предыдущих факторов, можно интерпретировать какими-то неожиданными причинами, которые могли повлиять на явку голосовавших и произошли после последних измерений. Но объяснить разницу в 25—30 % какими-либо рациональными причинами поведения избирателей достаточно сложно.
Таким образом, косвенно можно оценить избирательный потенциал этой ПАРТИИ приблизительно в 25—30 % электората, что уже само по себе существенно превосходит возможности любой политической партии, имеющейся в наличии. И это еще даже не имея ни названия, ни организационного оформления. Теперь для полной победы на выборах этой ПАРТИИ необходимо, чтобы она единственная выступала от лица власти. (Чтобы губернаторы на местах не сомневались, кто именно получил Благословение.) Пример соседей показывает, насколько это реально осуществимо, помешать может только ментальность элиты — число гетманов у нас всегда превосходит потребность в них. И пропорциональная система выборов для этого подойдет наилучшим образом. Во-первых, не надо будет собирать мажоритарщиков — они уже будут объединены. Во-вторых, коммунисты будут не страшны, а когда-нибудь они смогут и пригодиться, например, чтобы поставить на место «конструктивную оппозицию» внутри большинства, в случае, если та будет малосговорчивой.
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ — ЛИЧНОЕ ДЕЛО?
Для чего нам все же необходимы партии, если они выполняют лишь декоративные функции? Если бы они были нужны только для того, чтобы показывать их Западу, то можно было бы ограничиться гораздо меньшим набором, и не было бы такой нужды в постоянном появлении все новых организаций и объединений. На самом деле партии в нашей стране необходимы для того же, для чего они существуют во всем мире — для вхождения во ВЛАСТЬ. Есть только один нюанс — у них партии нужны, чтобы в составе этих организаций входить во власть, а у нас — это вход для избранных, в индивидуальном порядке. На Западе партии — инструмент, который существует для эффективного функционирования общества, а у нас — инструмент для существования богатых людей, имеющих капитал, и если они хотят остаться богатыми, то им по совместительству приходится быть и политиками.
В странах с развитым общественным устройством политический деятель выступает субъектом, чья деятельность осуществляется в рамках какой-то политической организации, которая уже является субъектом политического пространства. Там у политиков твердая почва под ногами, а у нас минное поле с одним проходом в болото, контролируемым государством. При этом наши политические деятели считают себя двигателем общественного прогресса. Это, прежде всего, свидетельствует об их незрелости как политиков, незрелости их взглядов на политические функции (но это связано и с тем, что в нашем обществе другого не увидеть), а также — о неразвитости общественных политических структур, которые вполне соответствуют степени зрелости всего общества. Эти политики больше напоминают безлошадного крестьянина, который сам тянет телегу, чем машиниста локомотива, ведущего состав. На современном этапе политика — скорее затратная командная игра, нежели занятие индивидуалистов.
Народ в Украине не идентифицирует изменения в своей жизни, ее улучшение с усилиями власти. В лучшем случае, он связывает эти ожидания не с системой власти, а с определенным политиком. А в демократичном обществе — с политической силой с разветвленной структурой, включая, конечно, и лидера партии.
Похоже на то, что мы строим наше государственное здание, начиная с промежуточных этажей. Тогда как необходим фундамент, в первую очередь, собственный украинский производитель, обладающий достаточным капиталом, чтобы почувствовать в себе силы принимать участие в политических разборках, причем это участие может быть необязательно личное. Это в нашей культуре и швец, и жнец, и на дуде игрец. А на «диком» Западе давно существует разделение труда и конкуренция во всех отраслях жизни общества.
Мы слишком увлеклись созданием клубов по интересам, которым почему-то присвоено название «партия». Партия — это политическая сила, стремящаяся взять власть и управлять государственным механизмом. Если исходить из принятого определения, то у нас в стране нет ни одной реально существующей партии.
В настоящее время это привело к политическому режиму с автономной властью, практически бесконтрольной со стороны общества. И в этом смысле, власть является самодостаточной, она воссоздает себя сама, без участия общества. По сути, состоялась модель политического развития, при которой игнорируется социальный ресурс демократического развития, что препятствует становлению современных форм самоорганизации общества. Политика исполнительной власти, на протяжении длительного времени была и остается антипартийной. Монополия государства в экономике порождает монополию в политике на право управление обществом, а число актеров в этом спектакле не имеет значения — они ни на что не влияют.
Если мы хотим состояться как цивилизованное государство, то мы должны создавать не феодальную и даже не капиталистическую структуру регуляции общественной жизни. Мы должны сразу создавать управленческую структуру постиндустриального общества. Главная задача, как нам выйти из существующего положения, не раскачивая лодку и не допуская общественных потрясений. Кто может вытащить нас из засасывающей трясины? Голос и силы есть лишь у уверенных в себе, у тех, у кого есть собственность. Но сегодня наверху слышно только тех, кому дадут слово. Нет конкуренции, которая помогает улучшать как качество товара, так и качество мысли. Поэтому власть должна осознать, что ее основная задача — создание условий для конкуренции производителей, конкуренции политиков и конкуренции мировоззрений.
Выпуск газеты №:
№9, (2001)Section
Подробности





