Как ответить на вызов трех империй?
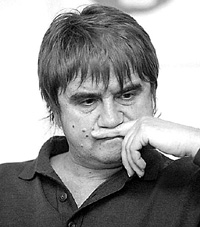
Уходящий год, безусловно, веховый, знаковый и симптоматичный с точки зрения радикального изменения системы мироотношений. Еще до начала иракской войны и до 11 сентября 2001 г. «мир треснул» — и сквозь эту трещину то тут, то там просачиваются процессы неуправляемости, несостоявшиеся и падающие государства, терроризм и бедность, особенно на глобальной периферии, радикальные экстремистские движения, расползание оружия массового поражения. Надеждам на всеобщую либерализацию, демократизацию, экономическое процветание, возникшим после исторического поражения коммунизма и распада биполярного мира, не суждено было сбыться. В общем, почти как у Лейбница: «Я думал, что вхожу в гавань, но был отнесен обратно в открытое море».
Основное противоречие современной эпохи — это противоречие между своеобразным стремлением к новым формам имперской суверенности, с помощью которых глобальные и региональные лидеры надеются упорядочить глобальный хаос, и нарастающим влиянием несистемных, негосударственных сил, пытающихся подорвать основы «государственноцентричного» мира. Но в любом случае и при любых раскладах — мы находимся в финале государственноцентричной системы международных отношений и на старте формирования новых имперских проектов.
КРИЗИС НАЦИЙ-ГОСУДАРСТВ
Сегодня в мире мы наблюдаем размывание национальных (вестфальских) суверенитетов, но это не значит, что не появляются новые организованные суверенности в форме постнациональных глобальных держав, наднациональных регионов, региональных сверхдержав. События в Ираке, на Ближнем и Среднем Востоке, восточное расширение ЕС и институционная реформа Европы, изменение позиционного статуса России, ее претензии на статус постсоветского суверена — все это основные свидетельства вхождения в фазу импероглобализации — восстановления иерархических организованностей международной системы в ответ на неуправляемую глобализацию 90-х годов.
«Империум» в переводе с латинского означает упорядочение, порядок. Способом выйти на режим управляемой глобализации есть формирование крупных имперских образований. Глобальные империи упорядочивают процессы, происходящие, прежде всего, на периферии современного мира, которые несут угрозы терроризма, ядерного распространения, миграционных потоков, нарастающей бедности, экстремизма и ксенофобии.
Майкл Хардт и Антонио Негри в своем бестселлере «Империя» (Harodt, Michael and Negri, Antonio Empire. Cambrige, 2000 y. Moss. Harvard University Press) подытоживают: глобализация экономических и культурных обменов подорвала суверенность национальных государств. Но они отрицают, что это означает исчезновение суверенности вообще. Наоборот, возникла новая форма суверенности, или, скорее, была оживлена имперская суверенность. «В отличие от империализма, — отмечают эти авторы, — империя не устанавливает никакого территориального центра власти и не полагается на фиксированные границы или барьеры. Это децентрализованный и детерриториализованный аппарат власти, который включает всю глобальную реальность в свои открытые, расширяющиеся границы».
Преждевременно пугаться, тем более пугать других термином «империя», если вся система международных отношений становится наднациональной, сверхдержавной и имперской. Не «империалистической», как во времена колониальных империй конца ХIХ и первой половины ХХ вв., а имперской, «интегристской». Бывшие империи были завоевательскими. В новые же империи просятся — в глобальную империю Соединенных Штатов, в Евросоюз как коллективный имперский центр. Поэтому понятия империи, имперского суверенитета и имперских суверенов нуждаются в рациональном доопределении.
О ЛИБЕРАЛИЗМЕ
Для того, чтобы под влиянием необходимости перехода к импероглобализации и имперской суверенности не произошло банального оживления имперской гегемонии, то есть классического империализма, необходимо внести ясность в вопрос о типах империи. Тем более, что в России, где наличествуют синдромы советского постимпериализма, чрезвычайно оживленно встретили наступление «нового имперского века», в частности идею Чубайса о России как либеральной империи.
Необходимо различать империи действительно либеральные, называемые проникающими империями, и империи старого типа — герметичные и закрытые. Герметичные империи не для сегодняшнего мира. Они не только несут опасность соседям, но и крайне неэффективны, и их время будет крайне ограничено.
Западные политологи давно уже выдвинули тезис о том, что Атлантическая система времен «холодной войны» представляла собой некое имперское образование. В чем была ее особенность? Или в чем особенность сегодняшней американской империи? Прежде всего в их открытости, проникаемости. В чем состоит проникаемость? Американская политическая система открыта, в ней могут лоббировать свои интересы различные этнические диаспоры и общины, многообразные группы интересов, неправительственные организации, ТНК, например японский бизнес, французский бизнес и т.д. И это оказывает существенное влияние на решения, принимающиеся в американской политической системе.
Второй момент. Открытые системы возникают в системе сосуществования. В такие империи просятся. ЕС — это экономическая империя, и мы туда просимся. Почему? Потому что это выгодно стране и комфортно гражданам. Более того, сегодня, когда развитой мир замыкается в себе в так называемый «золотой миллиард», обрекая остальные пять миллиардов на нищету, появился термин «исключающий империализм» (ostracizing imperialismus): система процветающих государств исключает другие из зоны стабильности и благополучия. Открытые империи — империи, предлагающие странам взаимовыгодные условия. Тем более что в современном мире национальные интересы все более глобализируются. Поэтому участие в разнообразных и преференциальных коалициях, проникновение в штабы современных глобальных, или имперских, центров, принимающих решения, влияющих на союзников по альянсам и т. д. становится ориентиром для менее развитых государств. Открытые империи дают возможность, с одной стороны, несколько упорядочить процесс дальнейшей глобализации, с другой — «поднять» некоторые страны через включение в наднациональные образования и институты. Отличие старых территориальных империй от нынешних империй заключается в том, что в задачи новых входит не расширение территорий, а освоение будущего. Не освоение территорий, а освоение будущего — вот в чем смысловая доминанта импероглобализации.
Несмотря на своеобразную новизну чубайсовской идеи либеральной империи, в чем состоит ее опасность в практическом, прикладном смысле? В том, что Россия пока представляет собой герметичное, закрытое общество. У нее не открытая политическая система. В нее трудно «проникнуть» своим гражданам, не говоря уже о глобальных, космополитичных или инонациональных группах интересов. Решения замыкаются в принципе на небольшом круге людей, на президенте. В такую империю трудно проникнуть.
То, что сегодня происходит в России, во многом будет определять, станет ли она действительно либеральной империей, или все-таки «получится» герметичная империя, для которой важно только территориальное расширение и региональный гегемонизм. Последнее — это возврат, так сказать, уже в империализм, а не в «имперскость».
УКРАИНСКИЙ РЕЦЕПТ
Вышеприведенные констатации — повод подумать о внешнеполитической и дипломатической «перезагрузке» Украины.
Нравится кому-то или нет, но мы начинаем жить в имперском мире. И три крупных имперских игрока касаются Украины: глобальная империя — США, экономическая империя — Евросоюз и евразийская региональная империя — Россия. Стрелы влияния этих имперских образований направлены и в нашу сторону. Если новые имперские суверены будут закрытыми или приоткрытыми, если Европа остановится на наших границах, а Россия будет демонстрировать региональное «сюзеренство», Украине будет тяжело. С одной стороны, может быть перекрыто движение к наднационализации и интегрированности, с другой — есть риск замкнуться в изоляционизме. Но сегодня политика не может быть изоляционистской. Страна не может быть неподвижной, государство — не памятник, неподвижно стоящий на пьедестале. Должно быть сильное, интенсивное движение в различные стороны. Не пресловутая многовекторность, балансирование между игроками, а способность проникать во все крупные образования и становиться значимым партнером и «вкладчиком» крупных проектов, межгосударственных, в том числе имперских.
Трудно согласиться с некоторыми экспертами в том, что в условиях формирования новых объединений имперского типа национальные государства обречены и неспособны отстоять свою суверенность — ни политически, ни экономически. Глобализация приводит к тому, что государства продолжаются как бы вовне, раздвигаются, расширяют свои интересы. Они теряют свою автономию, но не теряют свой суверенитет и не отказываются от экспансии. Например, мы можем в чем-то быть ограничены, но присутствовать в Ираке в составе глобальной коалиции.
Как говаривал Талейран, политика — это искусство сотрудничать с неизбежностью. Поэтому задача состоит в том, чтобы всегда выстраивать себя лицом ко всем. В том числе и к России. Судьба России и ее политика на постсоветском пространстве будет зависеть и от позиции Украины. Нужно искать взаимоприемлемые формы включения и в российские проекты, и в европейские, и в американские. Многие государства так и делали, например Япония — военно-политический союзник США, в то же время их жесткий экономический конкурент. В какую бы сторону ни эволюционировал новый мир империй, Украине придется заново переосмысливать свою миссию, доопределяться как держава, из «додержавы» стать державой.
Украинской дипломатии, как и внешнеполитическим элитам, необходимо прорабатывать понимание того, что в современном мире формой продвижения национальных интересов является интеграция. На вызов империи нужно ответить идеей внутренней и внешней интеграции, которые являются сегодня наиболее эффективными способами сохранения власти национальной элиты и прироста державного суверенитета.
Новым внешнеполитическим ориентиром могло бы стать активное проникновение в глобальные проекты, фронтальное интегрирование как форма своеобразного динамичного нейтралитета. Не замкнутого, изоляционистского, а динамичного, проникающего нейтралитета и комплементарной внешней политики. В общем, если вспомнить Тоинби, чем сильнее вызов, тем сильнее стимул.
Выпуск газеты №:
№219, (2003)Section
Подробности





