КОММЕНТАРИИ
Родовая травма общества и государства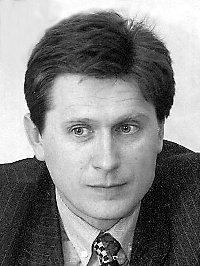
Родовая травма общества и государства
Владимир ФЕСЕНКО , кандидат философских наук:
— Не часто бывает, чтобы тема, сугубо академическая и по форме, и по содержанию, оказывалась в эпицентре острой политической дискуссии. Благодаря статье за подписью В.Литвина и острым критическим откликам на нее, предметом оживленного обсуждения стала проблема гражданского общества в Украине. Эта тема действительно заслуживает серьезного анализа и общественного внимания. К сожалению, словосочетание «гражданское общество» стало у нас расхожим штампом, почти таким же, как «рыночные реформы». Разница только в том, что многие из тех, кто употребляет термин «гражданское общество», понимают, что оно связано с демократией, но с трудом себе представляют, что это такое. Я в связи с этим вспоминаю одну забавную ситуацию. В 1993 г., когда в Харькове разворачивал свою деятельность местный офис Международного фонда «Вiдродження», его сотрудники обратились ко мне с просьбой популярно пояснить, что такое гражданское общество и как его можно развивать в Украине. Эта ситуация очень показательна. «Строительство» гражданского общества в Украине начиналось на западные деньги, но при этом мало кто из его «строителей» четко себе представлял, чем он должен заниматься.
В социальных практиках гражданского общества и их теоретическом осмыслении действительно накопилось немало мифов, иллюзий, предубеждений. Поэтому дискуссия о гражданском обществе в Украине весьма актуальна. Но вот то, что она разворачивается в ярко выраженном предвыборном контексте, откровенно говоря, настораживает. И сама статья и ее обоснованная критика задали определенный формат («за» или «против» гражданского общества, выступление в поддержку или против аргументов, изложенных в статье), что затрудняет и объективное рассмотрение проблемы, и восприятие начавшейся полемики.
Как это часто бывает в общественных науках, термин «гражданское общество» имеет множество интерпретаций и трактовок, рассматривается в широком и в узком значении. Но если выделить суть данного понятия, то под гражданским обществом чаще всего понимают совокупность негосударственных институций, сферу активности граждан, в рамках которой обеспечивается автономия и защита их интересов. Определяющей характеристикой гражданского общества является его определенное противопоставление государству как машине управления, авторитарной по своей сути. Именно с этой точки зрения развитие гражданского общества рассматривается как непременное условие последовательной демократизации, становления и упрочения молодых демократий.
Суть проблемы — в мере противопоставления, характере и формах взаимодействия гражданского общества и государства. Для стабильных демократий характерен динамичный баланс и активное конструктивное взаимодействие институций гражданского общества и государства. Для обществ нарождающейся демократии более характерна ситуация их противостояния, конфликтного взаимодействия. Если вырвать проблему соотношения и взаимодействия государства и гражданского общества из конкретного социокультурного, политического и исторического контекста, рассматривать ее абстрактно, то произойдет намеренная или спонтанная ее мистификация. К величайшему сожалению, по этому пути пошел и Владимир Михайлович Литвин, и некоторые его критики.
Если говорить об Украине, то главная проблема заключается в существенной деформации государства и гражданского общества. Оба они несут на себе рудименты тоталитарной системы, испытали своеобразную родовую травму.
В странах либеральной демократии гражданское общество возникало первоначально как социальное движение, на основе которого затем формировались общественные институты. У нас же логика фактически была обратной.
Демократические институты, в том числе и те, что относятся к сфере гражданского общества, создавались без массовой общественной поддержки, в социуме, в котором доминировали авторитарные ценности и настроения. Неэффективность посттоталитарных государственных институтов, их использование в частных и узкогрупповых интересах привели к быстрому и весьма массовому разочарованию граждан Украины и в ценностях демократии и в институтах, их представляющих. Отсюда массовое недоверие и к институтам власти и к политическим партиям и к общественным (или как принято их сейчас называть — неправительственным) организациям, которые и должны формировать каркас гражданского общества.
Гражданское общество основано на самоорганизации. Параллельная государству самоорганизация членов общества происходила и в советские времена, стали к ней возвращаться и в «новую эпоху». По сути дела, единственным органичным нынешней общественной ситуации институтом гражданского общества стала теневая экономика. Она позволяет выживать миллионам наших сограждан и реально учит их азам самоорганизации. Но это ненормальное положение. Гражданское общество требует соответствующего типа личности — активной и ответственной, достаточно автономной и самодостаточной. Это личность, для которой характерен особый тип политической культуры — гражданская культура, культура участия. Граждане активно отстаивают свои интересы, участвуют в делах общества, но при этом разделяют его базовые ценности, осознают свою ответственность за его стабильное функционирование (отсюда законопослушность и осознанная гражданская дисциплинированность).
В тоталитарной системе человек существовал как «раб государства». Демократизация и рыночные реформы вроде бы начали его от этого рабства освобождать, но оказалось, что на «воле» не очень-то уютно. Началось массовое «бегство от свободы» (кстати, типичный феномен, о котором писал еще полвека назад Эрих Фромм). Вот это бегство от свободы пришлось у нас на вторую половину 1990-х гг. Парадокс, но на этот же период пришелся бурный экстенсивный рост негосударственных организаций и мас-медиа, а также политических партий. Эти тенденции шли в противоположные стороны. Сотни и тысячи организаций возникали на западные гранты и подачки нуворишей, обслуживая, в первую очередь, приоритеты и интересы «плательщика». Формально структуры гражданского общества возникли, но они были не только слабы и оторваны от массовых интересов, изначально их развитие пошло по модели паразитического существования.
Читая статьи В.Литвина и его критиков, я вспомнил один показательный эпизод. Ровно год назад в Харькове я стал свидетелем массового митинга, организованного властями в поддержку Президента. Тысячи людей стояли под холодным январским дождем на центральной площади города, не слушая ораторов и злобно матерясь в адрес власти и оппозиции. Их собрали, а точнее сказать, «согнали» на этот митинг в рабочее время, оторвав от производственных и служебных обязанностей. И они покорно пришли. Это был административный триумф. Время словно бы повернуло вспять. Вот тогда мне стало ясно, что «кассетный скандал» обречен. В тот же день я встретил одного своего знакомого, занимающегося как раз проблемами гражданского общества. Реплики по поводу случившегося вырвались одновременно: «Какая демократия?!», «Какое гражданское общество?!», «Это не народ, это быдло, которое идет туда, куда его гонят!» (самокритично замечу, что это в равной степени относилось и к нам обоим), «Мы еще долго будем сидеть в этом болоте».
Прошел год. Ушли в песок эфирные волны «кассетного скандала», разгорается лихорадка очередной избирательной кампании. Вроде бы мало что изменилось. И тем не менее… Сам факт резкой критики статьи в «Фактах» говорит о том, что островки гражданского общества у нас существуют, и его представители способны на самооборону. Пока еще не исчезло ощущение свободы выбора, пусть и ограниченного. Джин гражданского общества выпущен на свободу. Плохие общественные институции лучше их полного отсутствия. Они создают поле возможностей. Другой вопрос — как мы ими пользуемся.
Гражданское общество нам пока «не грозит»
Евгений ГОЛОВАХА , главный научный сотрудник Института социологии:
— Проблема места государства в обществе и возможности контроля и регуляции социальной жизни без опоры на средства, которыми располагает государство, — не нова. Речь идет о средствах законодательного воздействия, принуждения, связанных с достаточно жесткой иерархией отношений. Гражданское общество отличается от государства одной очень важной особенностью — последнее всегда имеет жесткую вертикальную иерархию. В результате верхние этажи власти воздействуют на нижние, и таким образом постепенно иерархическое движение доходит до каждого гражданина. Так построено каждое государство, независимо от того, является ли оно демократическим, тоталитарным или авторитарным. Просто в демократическом государстве сами методы, средства и цели опираются не на насилие, страх или обман, а прежде всего, на возможность создания у свободного избирателя представления о том, что именно такая государственная система является наиболее предпочтительной для защиты его же собственных интересов. Однако все дело в том, что такая вертикальная структура или иерархия не всегда может учесть все необходимые обществу способы регуляции социальной деятельности и отношений. Должна быть еще очень развита система горизонтальных связей, в которой люди выступают не в качестве исполнителей и руководителей, не в качестве тех, кто предписывает и тех, кто исполняет, а прежде всего, как равные, свободные участники организованных социальных действий. Вот почему и возникает идея гражданского общества как определенной совокупности, организованной, как уже сейчас говорят, системы, добровольных ассоциаций граждан. В этом смысле вопрос о том, что первично, а что вторично, уже не стоит. Государство все в большей степени просматривается только как наемный орган управления — необходимый, но недостаточный. В качестве же того, кто нанимает или дает задания государству, выступает совокупность граждан. А еще лучше, если эти граждане являются не атомизированными членами общества, и если общество организовано в систему добровольных социальных организаций, поскольку реализовывать свой гражданский интерес, свое гражданское право, даже если это будет простое волеизъявление на выборах, индивидуально человек не может. Неслучайно в наших условиях, где преобладает все еще атомизированный человек, где меньшинство граждан участвует в добровольных ассоциациях и чувствует гражданскую поддержку со стороны своих сограждан, такой низкий уровень доверия к государству и ко всем его институтам. Поскольку, чувствуя себя беззащитным перед государством, самостоятельно отстоять свои права крайне сложно, — люди не доверяют тому, кого не могут контролировать. Это главный принцип. Западная система отношений гражданского общества и государства построена не на слепом доверии, не на доверии к тому, что отдельно взятое государство идеально. Любое государство стремится прежде всего узурпировать часть гражданских прав человека. Такова его природа и в какой-то степени его назначение. Доверие в развитых странах основывается на том, что гражданин может осуществлять контроль над государством. А это чувство формируется у человека только тогда, когда он является не просто гражданином, не просто причисляет себя к определенной государственной системе, а чувствует, что за его спиной стоит значительное число единомышленников, связанных общими интересами. И эти люди добровольно объединены с ним в некую организацию, способную отстаивать интересы граждан, если кто-либо посягает на их законные права и интересы. Последние публикации на эту тему, в которых нашим автором была переписана статья западного исследователя, свидетельствуют о том, что сейчас на Западе действительно задумываются над возможным наличием негативных сторон самоорганизации: не может ли она привести к ослаблению социального порядка, возникновению определенного рода анархических тенденций? Мы видим, как действия целого ряда гражданских организаций (антиглобалистов или футбольных болельщиков) приводят к существенному нарушению общественного порядка и к дестабилизации государства. Это действительно реальная проблема: далеко не всегда развитие любого социального института обладает лишь позитивной составляющей, и считать, что, скажем, гражданское общество является абсолютным добром по отношению к государству как к абсолютному злу — это уже гиперболизация, связанная с анархическими идеями и теориями прошлого века. Но проблема не в том, что гражданское общество не может развиваться без трудностей и недостатков. Проблема прежде всего в том, что для того, чтобы существовала демократия, в первую очередь необходим сам факт существования гражданского общества — не только как отдельных и частных проявлений гражданской добровольной ассоциации, а как некой системы, которая, по крайней мере, способна конкурировать с государством в регуляции социальной жизни. Что касается Запада, то там этот паритет достигнут, и теперь там побаиваются уже доминирования гражданского общества над государством, что в свою очередь может привести к утрате государством его определенных способностей. Это их проблема, и она заслуживает внимания и дискуссии, но, конечно же, не путем перепечатки в одном из украинских изданий под именем украинского либерального, или, по крайней мере, декларирующего себя таковым, автора. Для нас проблема состоит совершенно в другом: у нас не идет речь не то что о паритете, у нас не идет речь даже о существовании хотя бы слабой, косвенной альтернативы государству в лице гражданского общества. Таковое в Украине находится еще в стадии зарождения, и любые попытки дискредитировать ростки гражданского сознания и гражданской свободной ассоциации у людей неизбежно ведут к торжеству авторитаризма. Победить авторитаризм одним махом, сказав, что мы приняли демократическую Конституцию или создали демократические политические институты, невозможно. К этим институтам нет массового доверия граждан, в то же время достаточно доверия к старым тоталитарным институтам. И процесс, который может привести к тому, что гражданское общество станет опасным для государства как для гаранта общественного порядка, у нас будет продолжаться еще многие десятилетия. Сейчас главная угроза исходит не от гражданского общества, а от авторитарных тенденций самой власти и от массовой идеи, неорганизованной, нерегулируемой в рамках вот этих вот гражданских ассоциаций. И если в ближайшие годы или десятилетия мы не сумеем создать альтернативу государству в качестве гражданского общества, мы получим проблему противостояния остаточно авторитарного государства с остаточно охлократическим способом выражения протеста этому государству. У нас не будет последующего опосредствованного звена между неорганизованной массой и бюрократизированным, склонным к авторитаризму государством.
Между американской и европейской моделями
Вадим КАРАСЕВ , политолог:
— Если государство правовое, демократическое, если власть подотчетна избирателям, то сильное государство структурирует общество, предохраняя его от дезинтеграции, распада на так называемые локальные кооперации, которые могут в рамках своих локальных объединений работать против общества, производя антиблага. Гражданское общество в классическом теоретическом варианте предполагает производство общественных благ. Это общество, развивающее благосостояние, демократические права и свободы, охраняет личностную автономию и суверенитет индивида. Дезинтеграция общества на различного рода локальные сообщества имеет побочные действия: это могут быть и преступные сообщества, различного рода дезориентированные коалиции и группы, которые производят общественные антиблага (загрязнения окружающей среды, политическая коррупция и т. д.).
Что касается переходных демократий постсоветского пространства, то это проблема не столь теоретически однозначна. Дело в том, что до сих пор не решен основной вопрос: демократизация общества начала 90-х годов была вызвана сильным общественным порывом, развитием институтов демократии или слабостью государства, которое было одновременно разрушено в ходе «горбачевской перестройки»? Если верно то, что демократизация была вызвана слабостью государства, то значит, усиление власти на постсоветском пространстве (а тенденция к этому есть и есть в этом общественная потребность) может обернуться тем, что пострадают институты демократии. Это не усилит демократию, а может создать преграды на пути к той ее фазе, которую в классической политологии называют консолидационной.
Сегодняшний исторический момент и в Украине, и в ряде других постсоветских государств связан с необходимостью сбора уже не земельных территорий, а государственной власти. А это несет в себе очень сильные риски подавления процессов демократизации. И вот здесь взаимоотношения общества и государства не столь вписываются в теорию «позитивной суммы», а могут обернуться противоположным, когда усиление государства будет означать подавление общества.
С другой стороны, чем больше производится общественных антиблаг (стремление определенных групп оторвать часть бюджета в свою пользу, перераспределить финансовые потоки, получить выигрыш от коррупционных практик в теневой экономике, теневой политике), тем больше ослабляется государство.
Данная статья (если отвлекаться от политического и конкретно-исторического контекста, который касается Украины и всех ее задач, связанных с нынешним этапом предвыборной кампании и вообще с этапом историческим) имеет несколько, на мой взгляд, полурефлексивных мотиваций, установок. Первая установка касается того, чтобы развенчать либерально-гуманистическую ортодоксию, согласно которой любые общественные объединения являються фактором производства общественных благ, и согласно которой гражданское общество — некая абсолютная универсальная идея, стандарты которой навязываются той или иной конкретно-исторической реальности. Проблема гражданского общества не столь упрощена, как это трактуется в либеральной догматике. Само понятие гражданского общества, которое опирается на суверенитет индивида, представляет собой общество индивидуальностей, которое строится снизу с помощью различного рода кооперационных общественных взаимосвязей, врастая в некое большое сообщество, производящее блага. Над ним уже и надстраиваются институты государства. Такая схема модели адекватно применима лишь к американской демократии, американской политической системе.
Есть историческая модель общества, которая не является гражданским в американизированном или либерально-догматическом понимании. В Европе взаимосвязь между обществом и властью строилась не на индивидуальном, автономном, суверенном основании, а на базе корпоративных взаимосвязей. Это буржуазные цеховые гильдии, профсоюзные движения и различного рода субкультурные этнические движения. Европейская политическая, партийная, избирательная система строилась на корпоративных взаимосвязях. Европейское общество было обществом не горизонтальных связей и лояльностей, а обществом вертикальных солидарностей. Поэтому взаимосвязь между властью и населением в Европе строилась через партийные механизмы, через механизмы функционирования партий, которые, в свою очередь, строились на корпоративной основе. Они называются партиями народного типа, в отличие от партий гражданского типа в Америке. Гражданские партии появляются в Европе в конце ХХ — начале ХХI века.
Политологи различают два вида демократий. Либерально-конституционную, для которой характерно гражданское общество, воплощенную в политической и конституциональной системе США. Ее характерные особенности — это разделение властей, институциолизированное вето, двухпалатный парламент. Это все институционально формирует механизм взаимосвязей между государством и обществом, то, что в Америке называется общественной политикой. А партии функционируют как электоральные аппараты, которые выдвигают кандидатов на выборы. В межвыборный период наиболее значительно влияют на власть внепартийные объединения (гражданские ассоциации, группы специальных интересов, лобирующие конкретные отрасли, регионы, экологические движения и т.д.). Но они, в отличие от партий, не столь массовы и носят тематический однопрофильный характер.
В Европе этот механизм принадлежит партиям. Группы давления действуют или через партии, или через механизмы выхода непосредственно на правительство. Это модель суверенной демократии, основанная на власти народа.
Не стоит, по моему мнению, превращать концепцию гражданского общества в функциональный механизм украинской демократии. Система украинской демократии ближе к европейской модели. Но в связи с глобализацией, маркетизацией общественных отношений концепт и структура гражданского общества проникают в Европу и распространяются по всему миру. Сейчас в Европе можно констатировать существенную трансформацию партий, возрастающую роль масс-медиа, формирование влияния на политику различного рода гражданских и внеправительственных объединений. И сегодня проблема для изменяющихся европейских общественных систем заключается в том, чтобы найти оптимальное сочетание между традиционными партийными и общественными институтами в их влиянии на институты представительной демократии. Это касается и Украины.
Выпуск газеты №:
№21, (2002)Section
Подробности





