Приватизация
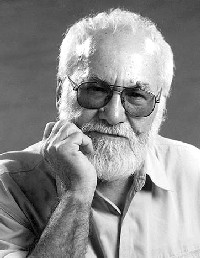
Давно известно, что язык и власть тесно связаны. К примеру, если вы говорите на том языке, на каком говорит власть, значит власть сделала с вами все, что она хотела сделать — она проникла в ваше сознание. Вспоминаются радикально мыслившие, как им казалось, обществоведы. Они утверждали, что в новых условиях ведущим классом является не пролетариат, а интеллигенция. А им возражали в том смысле, что интеллигенция вовсе не класс, а прослойка, и что историческая миссия пролетариата незыблема. Такая вот велась научная дискуссия. Ни тем, ни другим не приходила в голову простая мысль: можно ведь рассуждать о жизни общества, не употребляя всех этих слов. Принять, как говорится, другой словарь. А то, что люди употребляли именно эти слова, введенные некогда властью, свидетельствовало об их согласии с властью на самых нижних этажах сознания. Что бы они при этом не говорили, заседая на этажах верхних.
Эти нижние этажи во тьме, как им и положено быть. Вроде бы и свежим ветром подуло, и света стало больше. И человек вроде бы раскрепостился, как будто мыслит свободно. А из нижних этажей, из глубины неотрефлектированного сознания нет-нет да потянет чем-то застарелым. И все в языке. Вот человек озабочен политическим положением в какой-нибудь Верхней Вольте (да простят меня Верхние Вольтяне) или, скажем, вопросом — чего нам ожидать от новой администрации США. Откуда это у него? От прежней воспитательной работы, главной целью которой была политграмота. Единство партии и народа предполагало, что каждый сознательный товарищ мыслит как член Политбюро. Вот товарищ до сих пор так и мыслит.
Власть, о которой здесь речь, — не только власть политическая. Это — власть массовой культуры, вообще власть народа. О ее происхождении стоит поразмышлять. Эта власть не зарождается в народе сама по себе. Ее инициируют идеологи — публично говорящие и пишущие люди. Но как конечный продукт она все-таки принадлежит народу. Это становится ясно при некоторых неожиданностях, удивляющих самих идеологов. Когда они, как говорят, формируют одно общественное сознание, а выходит совсем другое. Но такова уж природа нравов.
Задача индивида — устоять и не даться. Занять свою позицию. На это способно только приватное, в широком смысле, лицо. Индивид им не рождается, он становится им, если его жизненной среде свойственно многообразие, в особенности политическое. Если нормой является самоопределение. Хотя бы в форме обретения и отстаивания собственной точки зрения. Сверхзадача — обрести свой язык, свой масштаб проблем, способ мышления, стиль жизни. Научиться самостоятельно прочитывать предлагаемые тексты и само бытие. Миф о существовании объективной информации, которую обязаны сообщать СМИ — один из последних мифов посттоталитарного сознания. Для простоты можно исходить из предположения, что вокруг только неправда. Но приватное лицо все-таки предпочтет жизнь со всеми неправдами, нежели с одной «Правдой». Хорошо выразился на эту тему Бернард Шоу: «Идея судебного процесса заключается в том, что если заставить двух лжецов разоблачать друг друга, правда выплывет наружу». Так вот, приватное лицо — это присутствующий на суде и самостоятельно размышляющий индивид. А массовый человек в смятении. Он терзается вопросами: кому верить, за кем идти. Он вопиет о «сумятице в умах». Он жаждет простоты и избегает трудной работы самоопределения.
В самом банальном смысле приватизация — это передача государственной собственности в руки частных лиц (денационализация). Народ называет это воровством. Адепты либеральной экономики — мерой, существенно повышающей эффективность производства. Все это так, но это мало интересно. Приватизация — акт рождения личности, т.е. феномен духовного плана. Но уже самим фактом появления на свет человек приватизирует мир, ту часть пространства, которую занимает его тело. Приватизация — это освобождение. Этим только и занят индивид на протяжении всей жизни. В начале при помощи природы, затем, опираясь на силы собственного духа.
Чтобы прочувствовать смысловые тонкости этого нового для нас слова, надо обратиться к более привычному его эквиваленту. Это — «обособление». Здесь явственно присутствует знакомый ряд — особенный, особа, особь, особничать (жить отдельно). И главное — «собственность». В том, почти забытом сегодня, значении, которое придавал этому понятию Джон Локк: моя собственность — это моя жизнь, моя свобода и мое имущество. В этом смысле собственность, возникающая естественным образом, т.е. благодаря труду, это всегда — частная собственность (private property). На ее основе возникает то, что получило название several property. Это — не только индивидуальная, но и коллективная собственность, однако, предполагающая четкие процедуры индивидуализации — определения долевого участия каждого частного лица. В рамках этого подхода понятие «государственная собственность» просто не может быть сформулировано.
Приватизация — это, мягко говоря, мирный развод индивида с государством. Помахать государству ручкой и сказать «privet». А если пожестче — это значит выставить государство вон из тех сфер, куда оно в свое время незаконно влезло. И надпись написать — «Private», что означает «вход посторонним воспрещается». Вообще говоря, пределы приватизации хотя и существуют, но они не достигнуты ни в одном государстве мира. Полагаю, не все читатели знают, что вообще приватизируется. Не только заводы, магазины, бани и газеты. В пригороде Хьюстона находится частная тюрьма, принадлежащая «Исправительной корпорации Америки». Там все, как в государственной тюрьме. Единственное отличие — содержание и охрана заключенного обходится на тридцать процентов дешевле. Кому это выгодно? Всем, ибо деньги выделяемые государством на тюрьмы берутся из кармана налогоплательщика. В небольшом городке штата Аризона тушением пожаров занята частная фирма. За безукоризненную работу в течение десятков лет фирма признана самой совершенной противопожарной службой Соединенных Штатов. Таких примеров не счесть. Везде частные предприятия работают эффективнее государственных.
Особо стоит вопрос о приватизации средств массовой информации. В нормальном обществе СМИ организуются в соответствии с одним принципом — они должны быть доступными для сообщения фактов и выражения различных точек зрения. Точка зрения правительства — только одна из них. В этом смысле все СМИ являются общественными. Как, к примеру, общественные туалеты. Но это не значит, что они никому не принадлежат. Владеющие ими частные лица делают на них свой бизнес. Важно только, чтобы эти средства использовались с целью, ради которой они возникли — информировать общественность. Понятно, что кто-то попытается использовать СМИ не по целевому назначению. Так бывает со всеми другими средствами. Именно это четко должен пресекать Закон. Вот пример. В прошлом году трое финансовых обозревателей английской газеты «The Mirror» систематически манипулировали мнением читателей, обеспечивая таким образом успех своих биржевых сделок. Об этом как-то стало известно. Разразился скандал. И вот недавно, в конце февраля, правительство Великобритании приняло закон, обязывающий журналистов-аналитиков «засвечиваться». Они должны сообщать читателям о своих деловых интересах, о том, какими ценными бумагами каких компаний они владеют. В принципе такой подход можно распространить и на все другие интересы.
Приватизировать можно даже деньги. Эта идея-утопия предложена Фридрихом Хайеком. Суть ее проста — контроль над деньгами надо предоставить потребителю, т.е. частному лицу. Пока это — прерогатива государства, неизбежна инфляция. Ф.Хайек предлагал разрешить банкам выпускать частные деньги. Между ними возникнет конкуренция. Клиенты же будут выбирать валюту тех банкиров, которые более эффективно управляют деньгами, — не допускают инфляции и обесценивания.
Наконец, приватизация — это тип мышления или умонастроение. Когда человек относится к социальному институту как к чему-то своему. Чиновник, к примеру, приватизирует должность и берет взятки. Потому-то места с кабинетами считаются хлебными, и в большой цене. Честные граждане этого не любят и пытаются мздоимство искоренить. Устремление сие благородно, но бесперспективно. В любом государстве, даже самом правовом, этот порок присутствует, и исчезнуть ему просто невозможно. Коррупция — вечный спутник государства. Ее нельзя искоренить, но можно ограничить. Простейший и эффективнейший способ — ограничить само государство.
Обратимся лучше к легальной приватизации в смысле умонастроения. Можно ли приватизировать справедливость? Почему бы нет. Надо только сменить словарь, и соответственно вести себя. Когда нас призывают чтить кодекс, вполне резонно спросить: а зачем? Могут ответить так: ну, знаете ли, это порядочно, и вообще, как говорили римляне, пусть рухнет мир, но торжествует правосудие. Если ответят так, приватизацией здесь не пахнет. Не скажу, что это — плохой ответ. Нет, это просто другая тема. Приватизация как тип мышления обнаруживается тогда, когда я отношусь к закону как к СВОЕМУ. Как к средству, которое я использую в цивилизованной конкуренции. Тогда нарушитель закона оказывается как бы получившим преимущество в конкурентной борьбе со мной, незаконное преимущество. Как футболист, подыгравший себе рукой и потом забивший гол. Согласитесь, что при таком отношении закон оказывается под бдительной охраной и меня, и каждого другого гражданина, а не только специальных органов. Как видим, нет более эффективного способа повысить действенность закона, нежели приватизировать справедливость. Тут могут спросить: а как же правосознание? У вас, мол, чисто утилитарное и инструментальное понимание права. Отвечу так: правосознание придет само. После того, как закон поработает в качестве внешнего инструмента в руках приватных лиц. Ибо осознание начинается с дела. Только таким путем люди приходят к пониманию, что закон — это ИХ закон.
Выпуск газеты №:
№62, (2001)Section
Подробности





