Три «имперских вызова» Украине
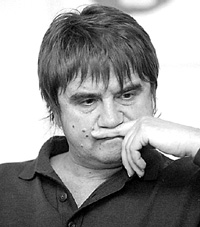
— Какой бы ни был спектр возможных последствий тузлинского кризиса — особенно для двусторонних российско-украинских отношений, интеграционных стратегий и нашего участия в многосторонних институтах — он будет лишь вносить дополнительные штрихи в складывающуюся глобальную картину отношений.
Всю сложившуюся в 2003 году ситуацию я бы обозначил как имперские вызовы для Украины. Сегодня в мире мы наблюдаем размывание национальных суверенитетов, но это не значит, что не появляются новые организованные суверенности — в форме глобальных держав, наднациональных регионов, региональных сверхдержав. События в Ираке, на Ближнем и Среднем Востоке, расширение ЕС, изменение позиционного статуса России, ее претензии на статус постсоветского суверена — все это основные свидетельства восстановления иерархии международной системы в ответ на неуправляемую глобализацию 90-х годов. В этом широком сверхконтексте тузлинский вызов Украине — демонстрация постсоветской неоимперсткости. Причем я бы говорил не о постимперском, а о неоимперском синдроме новых российских элит.
Итак, сегодня очевидны три имперских вызова: со стороны глобальной демократической империи США, со стороны «экономической империи» ЕС, которая закончила свое расширение на границах Украины, и со стороны полудемократической России, претендующей на имперский статус в постсоветском пространстве.
Здесь стоит вспомнить теорию Карла Шмитта, согласно которой суверен — это тот, кто определяет, когда государство находится в чрезвычайном положении, или тот, кто, используя кризисы, конфликты и напряжения, умеет навязывать свою волю и продвигать свои интересы. Состояние перманентной кризисности, чрезвычайности оправдывает силовые решения, придает принимающему решения статус суверена (например, под лозунгом борьбы с терроризмом, неспособности ряда правительств обеспечить порядок на вверенных территориях и т.д.). Похоже, последние действия и заявления российских властей укладываются в логику «шмиттовского суверена» с прицелом на статус арбитра евразийской геополитики. Используя стратегии и технологии дозированных, точечных кризисов, можно провоцировать чрезвычайные положения и навязывать свою волю в территориальных спорах на просторах пост-СССР.
В связи с обозначенными выше вызовами возможны несколько сценариев эволюции постсоветского пространства.
1. Российское доминирование, на что, собственно, Россия и рассчитывает. Основным глобальным и региональным игрокам, дескать, не до этого: США, скорее всего, надолго увязли в Ираке, НАТО находится в кризисе своей миссии, объединенная Европа, претендуя на статус экономической сверхдержавы, переживает одновременно кризис внешнеполитической и оборонной идентичности.
2. Главным арбитром и шмиттовским сувереном Евразии будет США (НАТО и ЕС), что, безусловно, не в интересах России и предполагает исчезновение постсоветского пространства как такового. Последнее без глубокого регионального кризиса вряд ли возможно. Поэтому и российское доминирование, и доминирование западного сообщества на евразийском пространстве в любом случае будет оборачиваться циклами напряженности и кризисами. Третий сценарий — разделенное (совместное) лидерство в рамках совместных интеграционных проектов постсоветских государств. Но для этого интеграция в СНГ должна быть не только разноскоростной, но и равноправной.
Российская власть сегодня находится в стадии централизации и консолидации, учитывая ряд благоприятных моментов во внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуре. Если говорить в целом о России, то среди большинства ее политических сил складывается неоимперский консенсус. От правых до левых мы можем наблюдать манифестации новой регионально-гегемонной роли России на постсоветском пространстве и стремления к различного рода «неоимпериализмам», начиная от синдромов «державно-патриотических сил» до либерального империализма (а фактически «энергоимпериализма») Чубайса и новых российских «правых» и т.д. Что бы ни говорили — мол, это чисто пиарные технологии, предвыборные заготовки, — но сам факт появления именно этой неоимперской темы уже свидетельствует о существенных сдвигах во внешнеполитической философии правящего класса России.
Что касается Украины, то стоит отметить несколько важных намечающихся тенденций к изменениям в структуре украинской власти. Прежде всего, наличие межпартийного консенсуса по проблеме национального суверенитета, территориальной целостности и государственных интересов. Это является обнадеживающим с точки зрения формирования Украины как политической нации. Несмотря на жесткую борьбу вокруг президентской кампании и политреформы, политическая элита единодушна в вопросе Украины как национального государства и политической нации — подобно двухпартийному консенсусу в США. Во всяком случае, в это хотелось бы верить. Второе: усилилась роль СМИ в национальной политической системе. Несмотря на претензии относительно ограничений в свободе слова, в редакционных политиках, реакция на тузлинский кризис медийного сообщества четко продемонстрировала большую роль СМИ в формировании восприятия угроз национальному суверенитету и национальной безопасности Украины. Возможно, действия СМИ, продемонстрированные во время этого кризиса, — это та планка, которая должна стать нормой не только в освещении таких кризисных точек, но и в целом в формировании отечественной политики. И, в-третьих, кризис показал, что, несмотря на различное лоббирование, различное понимание украинского выбора и дальнейшего державного доопределения Украины, власть и политический класс являются патриотическими. Можно говорить, что в ряде случаев это был вынужденный патриотизм. Но в политике в большинстве случаев важны не намерения, а реальные действия.
Если сравнивать украинскую и российскую власти, то очевидно, что в их основании — различные политические философии и два разных типа дипломатии. Неоимперская суверенность со стороны России, и национальная суверенность со стороны Украины. Стремление к глобальным и внешним проекциям власти — в России, и внутренние проекции власти и общества в кризисных условиях на внутреннюю консолидацию — в Украине. Отсюда и дальнейшее расхождение политических философий и мировоззрений, на которых основывается дипломатия.
Среди различных типов дипломатии сегодня значительно выделяется так называемая ревизионистская дипломатия, нацеленная на ревизию структуры международных отношений, оставшихся еще со времен «холодной войны». Таким ревизионистским государством, если брать глобальную перспективу, является США. С другой стороны, ряд государств, таких, как Франция, Германия, Китай и др. являются государствами статус-кво, то есть выступают за сохранение многополярного мира, ООН как ведущей структуры в организации международных отношении, СБ ООН как свообразного всемирного правительства, регулирующего и разрешающего противоречия между государствами.
Парадокс российской позиции в том, что, если на глобальном уровне РФ выступает как государство статус-кво, то есть поддерживающее структуры ооновского мира и не одобряющее «ревизионистские замыслы» глобальной американской империи, то на постсоветском пространстве Россия — ревизионистское государство, выдвигающее концепции превентивной обороны, тезисы о слабых центральных правительствах в постсоветских государствах, как бы обосновывая тем самым свое право на вмешательство и контроль над элитами и ресурсами стран СНГ. Следовательно, сегодня российская внешняя политика содержит сильный внутренний антагонизм, который не может не сказываться на конкретике дипломатии. Выступая на подмостках ООН в качестве защитника мирового статус-кво, Россия одновременно заимствует у США матрицы власти и дипломатии в отношении с государствами экс-СССР.
Дипломатическая практика, используемая в ситуации вокруг Тузлы, подтверждает, что Украина выступает государством статус-кво. В целях разрешения кризиса украинская дипломатия апеллировала к ООН, к гарантам суверенитета согласно Будапештскому соглашению 1994 года, к структурам коллективной безопасности и многосторонней дипломатии. Украина, таким образом, выступает сторонником традиционного национального суверенитета, согласно которому основным субъектом мировой политики является именно национальное государство (государство-нация). С одной стороны, позиция Украины может казаться вполне рациональной. Однако такой принцип «держит» нашу дипломатию в режиме догоняющего развития. Украинской дипломатии, как и внешнеполитическим элитам, необходимо прорабатывать понимание того, что в современном мире формой продвижения национальных интересов является интеграция. На вызов империи нужно ответить идеей интеграции: внутренняя и внешняя интеграции являются сегодня наиболее эффективными способами сохранения власти национальной элиты и прироста державного суверенитета.
В этой связи для нашей дипломатии возможен и такой сценарий реагирования на «трехимперский вызов»: это союзничество с глобальной либеральной империей США в военно-политической области плюс различные формы экономической интеграции с ЕС и Россией. Понятно, что такая модель не является окончательной. Но необходимо пробовать. И здесь ничего предосудительного нет, поскольку в мире существуют различные формы сочетания военно-политических и экономических форм партнерства, союзничества, интеграции и т.д. В частности, если говорить о японско- американских отношениях, то, будучи союзниками в военно-политической области (США являются военно-политическим гарантом суверенитета Японии), в экономической сфере они — жесткие конкуренты. Для многих американцев Япония — «государство — экономический злодей».
Что касается вялой реакции на конфликт в Керченском проливе со стороны США и ЕС, то причин может быть несколько. Во- первых, конфликт пока еще не вошел в стадию полномасштабного территориального столкновения. Пока он находится на стадии информационного и политического «разогрева». Поэтому ждать со стороны Европы, Америки и международных инстанций вмешательства преждевременно.
Сегодня мир находится в кризисе неопределенности, что связывает глобальных игроков и сковывает их усилия по предоставлению гарантий территориальной целостности новым государствам. Америка, как уже говорилось, занята на Ближнем Востоке, Европа увязла в расширении и институциональной реформе ЕС, поиске своего места в новом неопределенном мире. Игроки поменьше не хотят пока вмешиваться в этот конфликт, учитывая, что одной из сторон является поднимающаяся Россия, на партнерство с которой многие рассчитывают. Главная же причина вялой реакции — надежда международного сообщества на то, что конфликт будет погашен в рамках двусторонних отношений. Однако, чем бы ни завершились переговоры по Тузле и какие бы территориальные и пограничные конфигурации не установились в Керченском заливе, для новой украинской дипломатии встанет ряд серьезных вопросов о сценариях, ориентациях и ответах на кардинально изменяющуюся структуру мироотношений.
Выпуск газеты №:
№195, (2003)Section
Подробности





