Юрий САЕНКО: «Пассивная социальная помощь разрушает человеческое сознание»
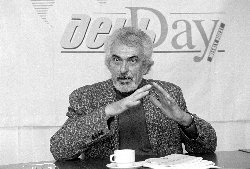
— В интервью «Дню» политолог Андрей Ермолаев вспомнил высказывание Юрия Андропова: «Мы не знаем общества, в котором живем». Как вы считаете — появились ли основания для понимания нашего сегодняшнего общества?
— Я сказал бы, что сейчас все общественные науки, в том числе социология, находятся в трагическом положении — вместе с обществом. Общество не знает, какое оно, — и общественные науки этого не чувствуют. Если уже советское общество конца, скажем, 80-х годов, т.е. более структурированное, называли неопределенным и непонятным, — то что говорить сейчас? Дело в том, что предыдущие наработки — теории, методики, оценки, даже прогнозы — базировались на наблюдении стабильных обществ. Когда же у нас случилась эта беда, и все пошло вверх дном...
— Что именно вы называете бедой?
— Системный структурный распад — экономики, управления, политических ориентаций, в конце концов, человеческого сознания. В нашей украинской культуре ни в досоветские, ни в советские времена не было разрыва между поколениями, — сейчас он появляется, причем колоссальный. Молодежь в своих ориентациях отрывается от старших поколений, а выбор будущего — на выборах, имею в виду — делает именно старшее поколение, потому что оно активнее голосует. Вот в чем трагедия!.. Таким образом, мы уже более десяти лет пытаемся как-то разобраться, как же структурировано наше общество, и не можем найти соответствующих методик и критериев.
— В чем же наша уникальность? Социологи других постсоциалистических стран справляются с мониторингом ситуации, не имеют проблем, аналогичных тем, которые стоят перед их украинскими коллегами?
— Трудно сказать: у нас хорошие связи с социологами из дальнего зарубежья, очень хорошие отношения с российскими коллегами, но мы практически не контактируем с польскими и прибалтийскими учеными, хоть социология в республиках Балтии всегда была на довольно высоком уровне.
— То, о чем вы говорили, означает ли отсутствие заказа — возможно, от государственных институций и тому подобное — на знание о новой структуре общества, на его масштабное всестороннее изучение?
— Нет социального заказа. Все то, что сейчас делается Институтом социологии, делается в трех направлениях. Во- первых, для заработка — это выполнение определенных заказов во время избирательных кампаний и тому подобное. Во- вторых, за счет финансирования тех научно-теоретических и методологических исследований, которыми мы занимаемся, хотя это не всегда имеет какие-то практические результаты. В-третьих, мы делаем то, что считаем нужным, отчасти урывая от бюджетных средств, отчасти — от заработанных. Таким образом мы издаем литературу и таким образом проводим мониторинг общественного мнения, — у нас динамика общественного мнения ведется с 1994 года! Есть некоторые показатели состояния общественного сознания 1992 года, а в последнем исследовании мы отдельные данные 2002 года сравнивали даже с показателями советских времен. Мы рассылаем результаты своих исследований многим государственным учреждениям, но практически никто не проявляет к ним интерес, никто ничего нам не заказывает. Государство нас как будто не замечает. Приведу такой пример: накануне закрытия Чернобыльской АЭС Институт социологии указом Президента был назван главной организацией по мониторингу социально-психологических аспектов этой проблемы. Прошло два года, — никто не обращается, никто этим мониторингом не интересуется...
— О чем это свидетельствует, на ваш взгляд?
— О том, что большинство наших государственных мужей не учитывают социально-психологический фактор, не принимают во внимание влияние общественного сознания на все происходящие процессы. По моему твердому убеждению, во всех экономических программах необходимо учитывать факторы колоссального социально-психологического сопротивления и трансформации сознания. Нам следует также наладить систему гражданского просветительства — в широком понимании этого слова. Сегодня любое исследование проявляет катастрофически низкую грамотность — правовую, экономическую, обществоведческую и тому подобное — людей. Как это сделать — я не знаю.
— В 1997 году в интервью «Дню» Евгений Головаха, отвечая на вопрос относительно социального самочувствия украинцев, привел формулу трех «не»: «недоверие, неуверенность, неудовлетворенность». Какой формулой вы бы сейчас оценили состояние соотечественников?
— В основном ничего не изменилось. Мы наблюдаем еще один опасный процесс: поскольку человеку не обрисовывают новый образ жизни, а сознание не может долго находиться в состоянии неопределенности, человек возвращается к старому. За последние десять лет возросло количество людей, которые хотели бы вернуть плановую экономику и советский образ жизни. Т.е. в 1994 году ориентации на демократический путь развития общества были сильнее, чем сейчас.
— А у молодежи?
— За эти десять-одиннадцать лет новое поколение прошло через новую систему образования, через опыт открытых обществ, ведь многие молодые люди сегодня учатся и работают за границей. Т.е. это поколение, в отличие от среднего и старшего, необходимо изучать по специальным методикам. Беда социологов еще и в том, что мы очень спешим. Мы не создали критериев оценки явлений и процессов. Скажем, характеристик, определения того же таки гражданского общества.
— Может, лучше исходить из практики? Какие примеры из нашей жизни вы могли бы назвать проявлениями гражданского общества?
— За примером далеко ходить, как говорят, не надо: начатое «Днем» и Ольгой Герасимьюк собирание сельской библиотеки вместо сгоревшей... Как, кстати, и другие инициативы «Дня».
Л. ИВШИНА : Это, конечно, сугубо теоретическая дискуссия — говорить, что было бы, если бы здание «СССР» разбирали, а не подорвали, как это произошло. Однако все грамотные люди в Украине, очевидно, должны были бы до определенной степени сформировать в государстве ту атмосферу, в которой было бы понятно, что из обломков того подорванного здания мы можем взять для нового строительства, что — признать морально устаревшим, какие «строительные материалы» — «продать» и тому подобное. У нас есть выдающиеся умы, но их усилия распылены, и поэтому одиннадцать лет спустя у нас нет ощущения, что мы разобрали этот завал, определили, что строить, из чего, как и кто именно будет строить... У социологов нет такого ощущения?
— Прекрасный образ. На мой взгляд, негативную роль сыграли также наши национал-демократы, которые, вместо того, чтобы воспользоваться приобретенным опытом, предложили все забыть и начать «с чистого листа».
— Это была первая фаза. Сначала отбросили они, а потом отбросили их.
— Да. Еще одна причина в том, что не был использован потенциал молодежи, — все должности оккупировали представители старшего поколения. И сегодня создается впечатление, что мы заходим в тупик исчерпанности старого интеллекта. А где же наш молодой интеллект, наша новая энергетика?
— За границей. Вы изучали это явление — выезд молодежи из Украины. Что это в основном — эмиграция, обучение с намерениями вернуться на Родину и тому подобное — какая картина?
— Мы опросили молодых — до 30 лет — ученых, сотрудников наших академических учреждений и 2000 студентов четвертых-пятых курсов всех наших Национальных университетов (пяти специальностей). У студентов настроение поехать и не вернуться. У молодых ученых — поехать, заработать денег, набраться опыта и вернуться домой. К тому же, для последних большее значение имеет возможность выхода на высокий международный научный уровень, тогда как для студентов более важен материальный фактор. Очевидно, гражданственность — фактор, который имеет очень большое значение для других политических наций — у нас не срабатывает.
— Интересно было бы услышать ваше мнение о характере и происхождении украинской бедности. Сейчас на государственном уровне эта проблема признана проблемой номер один, но в то же время никто не пробовал определить, какое происхождение у нашей бедности, как нам ее преодолевать...
— Оценки этого явления инструментами социологии и статистики очень отличаются. С одной стороны, у нас прожиточный минимум — 365 грн. 70% (или 210 грн.) этой суммы идет только на питание. И 15% идет на оплату жилищно- коммунальных услуг. Т.е. прожиточный минимум — это сумма, которая обеспечивает лишь элементарное выживание людей. Кстати, почти то же самое показывают и наши опросы. Отвечая на вопрос, с какого момента можно считать человека бедным, большинство наших респондентов указывает, что тогда, когда доход на душу населения меньше 400 грн. Т.е. сумма очень близкая. Почему бы не взять этот критерий за порог бедности? Дело в том, что тогда выходит, что у нас 90% бедных. Разве можно показывать такую цифру?
— Если есть, то, наверное, нужно показывать...
— Да, но это страшно. Поэтому собрали экспертов, которые «доказали», что черта бедности — это 157 грн. Тогда мы имеем где-то 25% бедных людей.
Теперь относительно характера бедности. Есть традиционно бедные страны. Это страны, которые бедные веками, и там весь образ жизни, даже уровень социального сознания соответствуют бедным странам. Там даже биологические показатели особые. Например, люди в бедных странах на 10% ниже и имеют меньший вес тела, чем в других. И продолжительность жизни меньше. Есть страны, которые находятся на грани между бедными и развивающимися странами. Там уже совсем другая ситуация. Там можно наблюдать высокий уровень образования, экономические прорывы — т.е. какие-то проблески современной цивилизации. И есть чудо, которое произошло 13 лет назад — это страны внезапной бедности. Когда все параметры традиционно бедной страны не совпадают, кроме того, что люди не имеют работы, имеют низкие заработки и т.д. Т.е. это высокообразованные, высококвалифицированные общества, которые имели развитую экономику, высокую военную защиту, высокий уровень культуры...
— А имеет ли наука какие-то разработанные параметры, чтобы определить, какое время пребывания в таком состоянии ведет к необратимым изменениям в направлении деградации?
— Не имеет.
— Но фиксируют ли социологи такую тревожную тенденцию?
— Я не могу сказать обо всем обществе. Я могу сказать о пострадавших от Чернобыльской аварии. Там действительно происходит деградация. Только в этом году Министерство по чрезвычайным ситуациям согласилось с моей концепцией, которую я выдвинул еще пять лет назад — о возрождении жизни в Чернобыльской зоне. Все равно там люди живут и будут жить. Еще пять лет назад я наблюдал, что 80% пострадавших не хотели переселяться оттуда. Т.е. уже тогда следовало максимально сократить программу переселения, оставив открытой ее только для молодых семей.
Наиболее адаптированные и социально, и психологически «чернобыльцы» — это самоселы. Их все устраивает. «Дайте нам только дожить», — говорят они.
Сильная деградация происходит среди переселенцев — среди тех, кому было 40 — 50 лет, когда их выселили из Чернобыльской зоны. Они не могут интегрироваться в новую социокультурную, природную среду, а тем более экономическую — там их не ждали, и там нет дополнительных рабочих мест. Эти люди очень хотели вернуться назад. Им все не нравилось на новом месте. И среди них очень мало инициативных людей. Я по специальной методике это определил. Они патерналистски настроены, считают, что их жизнь и здоровье разрушены навсегда и только ждут социальной помощи. Т.е. эти 16 лет сделали свое дело. Пассивная социальная помощь разрушает человеческое сознание, личность. Социальная политика должна иметь две составляющих: первая — человеку нужно помочь, а вторая составляющая — нужно отличать людей, которых еще можно реабилитировать, опять сделать инициативными, ответственными, которые будут и хотят работать. Кстати, вся социальная политика относительно всего населения Украины — пассивная. Мы делаем людей патерналистами, они смотрят в руку государству. Если мы не включим механизмы реабилитации нашего общества в целом, мы можем потерять большую его часть.
— Недавно на «круглом столе» по поводу развития гражданского общества многие выступления сводились к тому, что для построения в Украине гражданского общества необходимо, чтобы население вышло на определенный уровень материального благосостояния. Вы также считаете, что для того, чтобы у нас могло развиться гражданское общество, необходимо, чтобы все стали богаче? Почему, к примеру, когда люди бойко обсуждают, как тяжело прожить на 100 грн. или как все дорого в новом магазине через дорогу, они не становятся каким-то сообществом и не пытаются вместе защищать свои материальные интересы?
— Я недаром заговорил о том, что наша жизнь состоит из разрешения современных и будущих проблем. И то общество прогрессивное, где очень большую роль играет будущее. Кто-то из великих сказал: нищие духом бедные, и нищие духом не думают о будущем. Бедный человек не может думать о будущем, потому что все его помыслы нацелены на то, чтобы выжить сегодня. В этом контексте очень интересна категория времени. Много философов, ученых говорят, что мы живем в межвременье, в остановленное время. Но это не так! Время не останавливается. Никакого межвременья нет. Каждую секунду или час нам отпускается корпускула времени. И важнейшим критерием есть то, чем мы ее наполняем. Чем наполняет свое время бедный человек? Страданиями и думами о том, как выжить. И человека из этого состояния может вывести только общество, задав модель будущего. Нужно показывать людям, как выживать. Возьмем послевоенную ситуацию в Западной Европе. Они были в таком же состоянии, как мы сейчас. Но работали не только на то, чтобы все отстроить, но и на будущее своего государства.
— Вы говорите, что нужно заниматься гражданским просветительством, что нужно давать человеку веру, менять социальную патерналистскую политику. Кто должен это все делать, на ваш взгляд? Государство или какие-то общественные институции, политические силы? И что значит — дать веру? Наталкивают ли ваши исследования на то, какая именно вера нужна человеку?
— Если бы я мог ответить на этот вопрос, то меня нужно было бы номинировать на Нобелевскую премию. Наверное, нужно собирать в кучу весь наш интеллектуальный потенциал, остатки нашей энергии и думать, что нам делать. У меня нет готовых рецептов. У меня есть только диагноз. Я бросался в разные структуры, в политические партии, в патриотические организации, в «Нашу Украину». Я предлагал создать в Украине коллегию независимых экспертов, найти в каждой области 12 — 15 людей из разных сфер деятельности, никем не управляемых, независимых, пусть они вносят свои предложения. Мы будем с этими людьми работать. Хотя бы два раза в год хорошо было бы делать такие срезы и собирать предложения.
— И что вам ответили в «Нашей Украине»?
— Говорят: мы и так все знаем. У меня есть такая притча о социологии, — я сам ее придумал. Спрашивают управленца: «Тебе нужна социология?» «Да нет, — говорит он, — у меня столько постановлений, столько решений, столько данных, — я и так все знаю об обществе». Спрашивают депутата: «А тебе нужна социология?» Он говорит: «Я все время встречаюсь с людьми, я знаю, как люди живут, чего они хотят, поэтому — не нужна». Спрашивают ученого: «Тебе нужна социология?» Он отвечает: «Нет, не нужна. Я читаю литературу, философию, я все знаю». Спрашивают у обычного человека: «А тебе нужна социология?» А он говорит: «А я в нее не верю, потому что уже сколько живу, а меня еще никто из социологов ни о чем не спрашивал». А дело в том, что вероятность того, что тебя опросят, при выборке около 2000 респондентов, очень маленькая. Нужно ждать 150 — 200 лет, пока попадешь в эту выборку...
Возвращаясь к рецептам: я думаю, что только в результате диалога, общения, общественного просветительства можно достичь каких-то изменений. Вспомните, как настойчиво работала с сознанием Компартия бывшего Советского Союза. Каждого заставляли выписывать газеты, в каждый дом провели радио, следили, чтобы были дешевыми телевизоры, была целая система агитаторов, политинформация каждую неделю... Можно говорить, что это было «оболванивание», но это была и работа с сознанием. Если мы не будем работать с людьми, не вступим с ними в диалог, мы ничего не изменим.
— Но та пропагандистская машина знала, к чему стремится. А сегодня мы не видим своей цели... А какие тенденции, зафиксированные в ваших исследованиях, на ваш взгляд, будут углубляться и в дальнейшем?
— Никаких резких переходов не будет. Не изменится состояние домохозяйств. Тем более, что мы вступаем в фазу, когда будут выходить из строя все средства механизации наших домов — сантехника, мебель, холодильники и т.д. А у большей части населения нет денег, чтобы все это купить.
Кроме того, ухудшаются показатели этнической толерантности ко всем группам. Очень интересное сообщество украинцев — среди всех этносов они больше всего не любят себя.
Власть сейчас не предлагает модели выживания. Но и оппозиционные силы также ничего не предлагают. Т.е. мы объединяемся «против», а нужно объединяться «за». У оппозиции три разных «за» — у коммунистов одно, у социалистов другое, у Тимошенко — совсем другое, а Ющенко вообще не понятно, какую позицию занимает. Ющенко вообще-то добрый, хороший человек. Но у него есть существенный негатив — он не стал еще решительным, определенным, четким и волевым политиком. Я не вижу в нем сильного лидера. Не вижу де Голля, Эйзенхауэра, Аденауэра.
— А что вы можете сказать об обществе, в котором люди не верят власти, — она непопулярна и имеет низкий уровень доверия? Но в то же время очень много людей считают, что оппозиция — это еще более слабая структура и поэтому во многих случаях будет неэффективной, т.е. еще худшей. Отслеживаете ли такие настроения?
— Мы отслеживаем настроения такого плана: в обществе существует колоссальная усталость и колоссальная апатия и нетерпимость того положения, в котором мы находимся. 75% ежегодно отвечают, что их уровень жизни ухудшается. 77% отвечают, что наше общество сплошь коррумпировано. 50% считают, что государством руководит мафия.
— Какая, на ваш взгляд, роль церкви в современном обществе?
— Церковь ведет себя, как наши олигархи, как наша власть. А власть строит себе новые замки. В Институте социологии находится представительство Администрации Президента по жалобам. Туда приходят бедные люди, просители. И вот последние месяцы там делают шикарный евроремонт, красивые кабинеты. И бедные люди приходят в эти шикарные кабинеты... То же самое делает и церковь. Она строит величественные храмы, вкладывает туда деньги. И это рядом с тем, что у нас в разрухе вся гуманитарная сфера, запущены детские заведения, школьные и внешкольные. Советская власть не оставляла детей на улице. Конечно, нужно отстраивать церкви, но все это можно делать скромнее. Жаль также, что наша церковь не учитывает опыт украинской диаспоры, которая под крышей церкви объединяла все — веру, образование, семейное воспитание и даже «ячейки социальной помощи». Церковь брала под свое крыло как духовное, так и материальное состояние своей паствы, своего народа.
Выпуск газеты №:
№197, (2002)Section
Подробности





