Дорога к народной правде
Профессор Павел Зайцев — один из лучших биографов Тараса Шевченко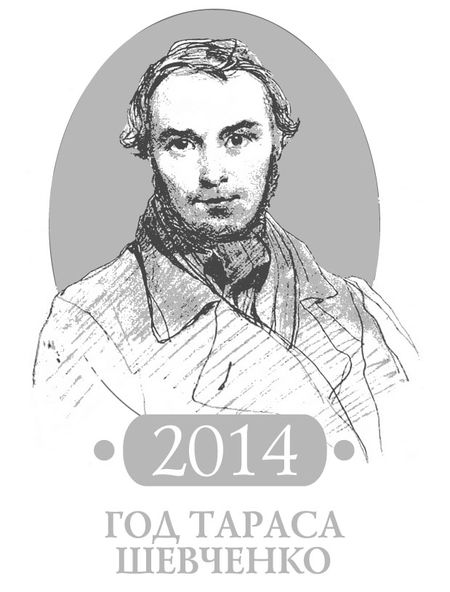
Жизнь национальных пророков, духовных кормчих народа — это таинственный «код», загадочное послание, символическое сокровище, которое надлежит растолковывать и добывать каждый раз новым поколениям. Тарас Шевченко, чья фигура — даже в ряду таких всемирно известных светочей человеческой мысли и слова, как Мицкевич, Петефи, Пушкин, Байрон, Бернс — является чем-то поистине уникальным, убедительно доказывает, что это именно так.
Над жизнеописаниями поэта на протяжении десятилетий работали выдающиеся ученые, писатели, публицисты; всех безгранично влекла Вселенная Шевченко. Первым, как известно, обнародовал свою книгу Михаил Чалый, который лично знал Тараса Григорьевича, — еще в начале 80-х годов ХІХ века, — Евгений Маланюк, Евгений Кирилюк, Сергей Ефремов, Леонид Билецкий, Богдан Лепкий, Юрий Луцкий, Дмитрий Чижевский, Тодось Осьмачка много и блестяще писали о Шевченко, делая каждый свой неповторимый вклад в познание жизненного и творческого пути нашего гения. В 2005 году вышла фундаментальная монография академика Ивана Михайловича Дзюбы (переизданная в 2008 году), которая является вершинным достижением современного шевченковедения.
Однако есть еще одна работа, посвященная удивительной жизни Поэта, без знакомства с которой наше представление о Шевченко неминуемо будет неполным. Имеем в виду книгу профессора-филолога и историка Павла Зайцева, одного из наиболее уважаемых исследователей творчества автора «Кобзаря» в кругу ученых украинской диаспоры. Самый авторитетный текстолог произведений Шевченко, редактор уникального «Повного видання творів Тараса Шевченка» (в 16-ти томах!), которое издавал Украинский Научный Институт в Варшаве в 1934—1939 гг. (это было первое полное воссоздание поэтического и прозаического наследия Шевченко, научно проработанное, прокомментированное и проверенное по всем известным достоверным первоисточникам) — к большому сожалению, из задуманных 16-ти томов удалось выпустить в свет только13, потому что началась Вторая мировая война — профессор Зайцев не только всю жизнь был «влюблен» в Шевченко. Он обладал действительно редким даром: гармонично соединять в своих работах наивысшую научную требовательность, беспристрастный, объективный подход к исследуемым событиям, фактам, явлениям, безукоризненную обоснованность аргументов и, что очень важно, непринужденность, яркость и «ясность» изложения. При этом сохраняется и системность повествования.
Это ярко отразилось и в самом известном, наиболее совершенном произведении профессора Зайцева, посвященном Великому Украинцу — «Жизнь Тараса Шевченко». Необычна судьба этой книги. В то время, когда она печаталась во Львове (август — сентябрь 1939 года), в город вошли советские войска. Несброшюрованные листы произведения были конфискованы чекистско-цензурными органами власти «рабочих и крестьян» («национализм»!), а впоследствии просто грубо уничтожены. Однако чудом сохранился (в типографии Львовского научного общества имени Шевченко) авторский корректурный экземпляр работы. Кроме того, несколько (тоже несброшюрованных) экземпляров впоследствии оказались на Западе. Немецкие цензурные ограничения сделали невозможным, разумеется, издание «Жизни Тараса Шевченко» во время войны; намерения издать книгу в Мюнхене в 1948 году тоже не удалось осуществить из-за нехватки средств. И только в 1955 году силами Научного общества имени Шевченко в Европе и Северной Америке, синхронно в Нью-Йорке, Париже и Мюнхене, это произведение, наконец, дошло до читателей. До последних недель и месяцев вплоть до завершения творческой работы над монографией профессор Павел Зайцев продолжал «шлифовать» текст.
Результат: глубокое, обстоятельное, вместе с тем увлекательное произведение, которое и сегодня воспринимается как современное, остроактуальное, национально ангажированное (в лучшем смысле этого слова). К тому же, повторимся, «Жизнь Тараса Шевченко» вдохновляла не только научная добросовестность, но и горячее чувство любви автора, Павла Зайцева, к уникальному человеку, о котором он взялся писать. «Простыми словами исследователь отвечает на вопросы (возможные или наиболее распространенные) тех, кто склоняется перед величием Поэта и одновременно хочет разобраться в узловых проблемах его жизни. Сформулируем эти вопросы.
ДЕТСТВО ТАРАСА. ГЕНИАЛЬНЫЙ СИРОТА — КАК ФОРМИРОВАЛОСЬ МИРОВОЗЗРЕНИЕ БУДУЩЕГО ПОЭТА?
«Еще в детские годы Тараса, бесспорно, жили в Кереливке люди, которые на том Запорожье бывали, куда от немилостивых господ своих убегали. Коронный гетман Браницкий когда-то приказал целую улицу в Кереливке «украсить» посажеными на острые сваи крепостными, которые хотели поджечь его скирды. Было это вовсе не так давно, люди об этом помнили, и, несомненно, такие рассказы слышал и маленький Тарас. На фоне невеселой действительности и упоминаний о давних, не менее грустных событиях ужасными казались слова народной песни:
«Нема в світі правди, правди не зиськати...»
И неудивительно, что впечатлительный юноша, слыша и глубоко сдерживая все то, о чем говорилось выше, когда пришло удобное время, весь отдался исканию той украденной у его народа правды. Был худощав, меньшего, чем бы на его возраст выпадало, роста. Ласковый и чувствительный, своей нежной душой склонялся больше к матери и сестрам. Когда миновало ему восемь с половиной лет, отец послал его в школу. Все Шевченко-Грушевские были грамотными, — такая уж была в их роду традиция. Григорий Шевченко, отец Тараса, был человек умный и грамотный. По праздникам — особенно, по-видимому, в зимние месяцы — читал он вслух «Минею». Книга эта была среди грамотных людей на Украине очень популярной. Для впечатлительного мальчика слушание написанных на торжественном церковном языке рассказов о святых мучениках, которые, не колеблясь, отдавали жизнь свою за Христову веру, о евангельских событиях, украшенных полными живой поэзии народными апокрифическими мотивами, открывало древний мир, мир далекий, но полный ужасных событий, чудес и трогательных, осеняемых моральной красотой, образов, — мир героических соревнований.
Но, кроме той печатной книги, где столько было интересного о давней борьбе «стратегов Божьих» за веру и правду Христову, была у Тараса, возможно, и еще более интересная вторая книга о совсем недавней борьбе, которая еще не так давно оросила кровью всю окраину родной ему Кереливки, да и саму Кереливку. Той живой книгой были рассказы старого деда Ивана о так называемой «Колиивщине», о кровавом восстании крестьян-крепостных против польских магнатов в 1768 году. Дед Иван сам был участником тех событий.
Так, еще совсем маленьким будучи, глубоко воспринимал Тарас то, что слышал, и умел уже тогда проникаться человеческими страданиями и трагедиями. Чуткий и чувствительный, уже тогда носил в душе не всем присущее, а иным и вовсе чуждое сочувствие к обездоленным. Но была у него и еще одна книга, всем одинаково доступная, но не всем одинаково понятная, книга тоже неписаная и никакой цензурой не исполосованная — была ею украинская песня. Лишенный национального провода, преданный верхушкой, что «ради лакомства несчастного» по обе стороны Днепра денационализировалась, закрепощенный и не имея возможности нормально развиваться и творить культурные ценности, народ украинский все сокровища своей вековой культуры сохранил в песнях. Пел о далеком и ближнем прошлом, пел и о тяжелой, несносной современности. В песне сберегал и свои политические, и свои этические идеалы. С ней на устах шел на ненавистную работу, в ней изливал свои горести и сожаления, ею потешал себя и развлекал, ею украшал свои праздники.
КАК РЕАЛЬНО ВЫДЕРЖИВАЛ ПОРАБОЩЕННЫЙ ШЕВЧЕНКО СОЛДАТСКУЮ МУШТРУ?
«Муштра и казарма — то, что больше всего он ненавидел, были теперь принудительной атмосферой, в которой должен был все время находиться. Как к каждому «молодому солдату», приставили к нему «дядьку», то есть инструктора. Мундир выдали ему узкий. Каждое утро начиналось с натягивания постылого мундира с помощью «дядьки». Дальше шла муштра. Капитан Герн хотел помочь Шевченко и облегчить его положение и, как уже говорилось, совместно с командиром бригады написал это письмо командиру орского батальона майору Мешкову с просьбой «обратить особое внимание на несчастного ссыльного и помогать ему, в чем может», но Мешков понял это «по-своему»: он взялся лично по несколько часов ежедневно мучить бедного Тараса солдатской «выправкой», «учебным шагом в три приема» и другими тонкостями тогдашней фронтовой службы, надрывая силы, чтобы сделать из него хорошего фронтовика. Бесполезными были усилие майора: Шевченко уже в день конфирмации сказал себе, что из него «не сделают солдата». Он не только не хотел, но и не умел «носок тянуть». Свидетели его фронтовых мук долго помнили его «тяжелую, неуклюжую фигуру», фигуру человека, совсем неспособного к муштровой «выправке».
КАК ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЕ О МЕСТЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ШЕВЧЕНКО В УКРАИНЕ?
«Когда прибыли в Киев Лазаревский и Честаховский, близкие друзья Шевченко, они узнали, что родня ушедшего поэта уже сложилась, собрав 15 рублей, что за эти деньги куплено место на Щекавице, уже выкопана Тарасова могила и заказан высокий дубовый крест. Все это уже выполнил Варфоломей Шевченко (близкий родственник поэта. — И. С.), которого вся родня, как человека энергичного, практичного — «из бывалых», сделала своим представителем. Но оба молодых петербуржских делегата привезли свой собственный проект. Они настаивали на том, чтобы похоронить Шевченко на Чернечьей Горе под Каневом — на месте, которое для него уже приобрел Варфоломей, там, где должна была стать взлелеянная в мечтах поэта «хата над Днепром», которую теперь ушедшему должна была заменить «хата-домовина». Начались новые споры. И молодежь, и некоторые из старших граждан считали, что достойным великого поэта местом вечного покоя должна быть столица Украины Киев. Тогда Честаховский предъявил аргумент, перед которым все капитулировали: он заявил, что Шевченко, умирая, на вопрос, где его похоронить, ответил ему: «В Каневе!» Неизвестно, было ли это правдой (Честаховского не было у смертного одра поэта), но это решило дело. Все согласились. Решено было тленные останки Тараса перевезти в Канев на пароходе.
***
Это — только три небольших фрагмента из книги Павла Зайцева, но и они, кажется, дают определенное представление о стиле автора: выверенности фактов, точности, ясности и прозрачности изложения. Остается искренне рекомендовать читателям «Жизнь Тараса Шевченко», потому что из этой работы можно получить достаточно полное и глубокое представление о пути нашего Пророка.
Выпуск газеты №:
№37, (2014)Section
Украина Incognita





