На велосипеде за Мерседесом?
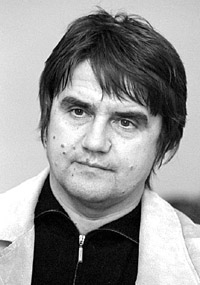
Смысловым стержнем начавшегося политсезона является вновь обострившийся вопрос модернизации системы власти в Украины. Заявленный Президентом проект политических реформ в качестве центровой идеи предполагает создание парламентской демократии или республики парламентского типа. В комментариях политологов, политиков и политических наблюдателей этот тезис признан в качеств е основополагающего принципа политического реформирования и конституциональных изменений. При этом в качестве основных аргументов берутся как факторы гипотетически высокой (по крайней мере, для Украины) эффективности парламентских режимов, так и европейская «размерность», «европейскость» именно парламентской республики. Что, видимо, должно означать политическую европеизацию Украины.
Парламентская демократия включает несколько основных принципов и признаков. Во-первых, парламентский институт и парламентская демократия как власть народа является политическим измерением государства-нации. Классические формы парламентской и партийной политики сложились в условиях современных государств-наций, составивших костяк политической Европы. Во-вторых, центральный институт парламентской демократии — политические партии, сформированные на базе стабильных и упорядоченных социальных структур и профессионалых страт, европейских идеологий, опирающихся на коллективные идентичности и организационную культуру. В-третьих — парламентская демократия — власть большинства: управленческая система строится на основе механизмов мажоритарного голосования. При наличии разновидностей — от демократии однопартийных большинств до демократии пропорционно-коалиционного типа, решения принимаются политическим большинством, стабильность которого обеспечивается постоянными идеологическими приверженностями и привязанностями, организационной культурой, присущей индустриальному обществу, его социальной и политической структурам.
Парламентско-президентская или парламентская республика — это политическая система классической нации- государства со стабильной партийной системой и механизмом принятия решений мажоритарным голосованием, политическая надстройка социальной структуры, экономики и общества индустриального типа. И не случайно европейский парламентаризм в своем классическом стандарте окончательно утверждается к середине 50-х годов прошлого столетия. Парламентско-партийная политика — это, так сказать, политическое производство (или, если угодно, производство политических стоимостей) классического индустриального общества. Поэтому становление постиндустриальных, информационных, глобализированных обществ не случайно сопровождается кризисом, а иногда и зримой эрозией классических парламентских институтов, партий, размыванием идеологий и строящихся «под них» механизмов интеграции общества, организации власти и форм политической (прежде всего, партийной) активности.
С наступлением постиндустриального общества происходит то, что европейские политологи, политики определяют как «трансформация политического» — превращение партийной политики в медиаориентированную, представительной парламентской демократии в медиапредставительную — постидеологическую и постпартийную. В общем, сфера политического существенно трансформируется, отражая новые запросы на институты и формы легитимности и организации власти, политического участия, консолидации элит и действий политических акторов.
Глобализация, евроинтеграционный процесс, проявляющиеся в наднациональных политических институтах, с одной стороны, и увеличении роли субнациональных и других актов, с другой, размывает политическую формулу классической нации-государства. Постнациональные акторы, СМИ, международные экономические институты, транснациональные корпорации, функциональные коллективы, фонды и организации глобально-гражданского общества постепенно замещают партии и идеологии в качестве основных механизмов политической и электоральной мобилизации. Политики — через СМИ, а супердержавы, например — посредством вненациональных политических акторов напрямую обращаются к населению и общественности в поисках и влияния на политический процесс. Снижение интенсивности и размывание социально-классового конфликта, в свою очередь, усиливает эти тенденции, перенося основные противоречия из экономической и распределительной сферы в сферу культуры, индивидуальных прав, гуманитарных проблем. Концепт демократии как власти народа активно пересматривается в направлении демократии прав человека. Однако специфика культурной сферы, в отличие от политического мира жестких — партийных идеологических структур, состоит в работе с индивидуальными идентичностями, дифференцированности, гибкости, креативности.
Постпартийная политика — это мир гибких временных коалиций, управление через дифференциацию и стимулирование индивидуальных решений. Иначе — политическая интеграция осуществляется через индивидуальное восприятие персональных форм и инструментов. Например, телевизионный имидж для легитимации и политической интеграции сегодня уже значит больше, чем идеологическая приверженность и партийные привязанности. Западное общество Логоса трансформировалось в общество логотипов, рекламных практик, медийных репрезентаций. Политический мир все более американизируется, глобализируется. Над (или пост)-национальная политическая Европа формирует новый тип политики, структура и инструментарий которой складываются поверх традиционных парламентских институтов партийных систем и государств-наций.
Очевидно, не случайно, что европейские политикумы заимствуют и культивируют американский (он же глобальный) стиль политики — создание временных коалиций и гибких альянсов, апробированных американцами в своей внешней политике. Впрочем, ее технологический смысл — это не более, чем проекция принципов и инструментов внутренней американской политики, особенностей ее политсистемы — с наличием гибких законодательных большинств, коалиций голосов (а не портфелей — «как в партийно-коалиционной» Европе), партиями, выполняющими лишь роль электоральных аппаратов и команд, но не выступающих носителями четких идеологической и организационной культур. Постнационализм, федерализм, регионализм, акцент в пользу согласовательных и консилиумных форм управления призваны не столько выражать единую волю нации, класса и т.д. (именно в этом суть постнационализма, а не в ненациональных признаках), но координировать позиции, согласовывать интересы, приводить к кооперативным решениям, а не играть в мажоритарную игру голосования в схеме минимальное большинство/максимальное меньшинство.
Представляется, лозунг президентско-парламентской республики с учетом этих, а также и других изменений и трансформаций — лозунг догоняющей мобилизации. Нам предлагают то, что находится в фазе трансформации, к тому, от чего Европа уходит, формируясь как наднациональная и в этом смысле уже постевропейская общность. Повсюду — федерализация, регионализация и культурная дифференциация, управление через гибкие и ситуативные альянсы и коалиции, дехаризматизация идеологий и кризис партсистем, отделение наций от государства (аналогично процессам 16-17 веков, когда происходило отделение государства и религии). Не случайно реакцией на подобного рода постполитическую политику является всплеск национального популизма в Европе (Ле Пен, Хайдер, Фортайн). Правый национал-популизм особо резонирует глобализационному популизму европейских элит, вынужденных вовлекаться в наднациональные проекты, жертвуя принципами республиканского национализма (например, французский голлизм).
Некритическое заимствование фактически завершающегося европейского опыта парламентско-президентских республик может обернуться весьма непродуктивными решениями: вместо практики административного сколачивания одноразовых коалиций — лихорадочное сколачивание партий в «недо»-и «пост»-партийной среде; вместо административного принуждения — принудительная партизация, вместо настройки управленческой системы с учетом разнообразных и дифференцированных интересов — господство «общепартийных»; уход в партийный партикуляризм и мелкопартийность. Тем более, что с учетом критически назревшей необходимости ухода из посткоммунистической неопределенности в формуле «парламентско-президентская республика» ключевое значение должно занимать именно «республика» — организация и интеграция публичной сферы как сферы производства общественных благ на принципах либерализма и демократии. Нужно укреплять республиканские институты, преодолевая кризис постсоветского государства и публичной сферы, патрон-клиентские схемы, формы корупционной политики, партикулярный бизнес — вне зависимости от того, будет это президентская или парламентская модели. Таким образом, парламентский проект для Украины нуждается в уточнении и коррекции на концептуальном уровне. Не только с точки зрения классических политологических дебатов о преимуществах и недостатках президентско-парламентских систем или с позиции конституциональной и технологической реализации. В масштабном политическом проектировании и строительстве нужно как можно быстрее избежать «эффекта гипноза спины», когда идущий вслед лишен возможности более широкого обзора и видения новых горизонтов. Строить и совершенствовать украинский парламентаризм необходимо с учетом его новых образцов и сознанием новой европейской политпрактики, и того, что вернутьс я в «парламентско-партийную классику» — это значит обратиться к тому, что уже не существует или заканчивает свое существование. Лучше продумывать, как встроить украинскую политсистему в глобальные институты, в наднациональные институты европейского сообщества — тот же Европарламент; — как адаптироваться к такому совершенно институту Евросоюза как Еврокомиссия, которая разительно отличается от практики управления на основе голосования большинством. Как упорядочить и демократизировать медиаформы политики в Украине, и обеспечить гражданские и индивидуальные права, развитие креативных и ассоциативных оснований гражданского общества. Не нужно изобретать украинский политический велосипед, но не стоит и импортировать это европейское изобретение прошлых веков. Глобализирующий мир и Европа предпочитают более скоростные и мобильные виды транспорта.
Выпуск газеты №:
№166, (2002)Section
Панорама «Дня»





