Поиск себя
Переводы Библии ХVI века на «простой язык»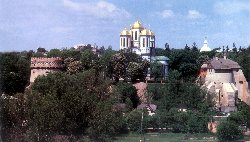
В ХVI веке в Украине заметно активизировалась религиозно-культурная жизнь. Именно на то время приходились первые попытки осуществить переводы на «простой язык» библейских книг. Нужно учитывать то, что нормированного украинского языка, как, кстати, и других языков тогдашних европейских народов, не было. Поэтому в переводах на «простой язык» библейских текстов в Украине находим церковнославянскую лексику (в основном, такие слова, которым трудно было найти соответствия), а также слова, вошедшие в современные украинский, белорусский, польский и даже чешский языки, некоторые диалектизмы и тому подобное.
Появление этих переводов было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в ХVI ст. в Украине стали выразительными отличия между церковнославянским языком и живым народным говором. Во-вторых, в то время интерес к Священному Писанию начали проявлять люди, которые не были духовными лицами (об этом, в частности, писал полемист Герасим Смотрицкий). Нередко они плохо понимали церковнославянский язык, поэтому и хотели пользоваться переводами Библии на «простой язык». В-третьих, именно в ХVI веке в связи с распространением протестантизма появляется ряд переводов библейских текстов. Так, в Украине была хорошо известна Радзивилловская Библия, изданная на польском языке в Бресте в 1566 году. В-четвертых, в ХVI веке перед украинцами встала задача: отстоять свою идентичность в условиях польской экспансии, оживить труд на религиозно-культурном поприще. Именно в этом контексте следует осмысливать появление в Украине братских школ, Острожской академии, а также переводов библейских книг на «простой язык».
До нас дошло не так уж и много этих переводов. Разнообразные военные и конфессиональные конфликты, недостаточное внимание к хранению рукописей и другие факторы привели к уничтожению этих произведений. А уцелевшие дают скорее не целостную картину, а отражают тенденции, характерные для того времени.
Попытки писать религиозные тексты «простым языком» прослеживаются в Украине в ХV веке. С того времени дошло до нас около тридцати текстов. Известна, в частности, списанная в Каменце «Четья» 1489 г. — признаки живого украинского языка в ней очевидны.
Первая значительная попытка на украинско-белорусской почве осуществить перевод на «простой язык» библейских книг и издать их, принадлежит белорусу Франциску Скорине. Образцом и ориентиром для него был чешский перевод Библии 1506 года. Здесь следует иметь в виду, что чешский язык и культура были в то время наиболее развитыми в славянском мире. Достаточно сказать, что в тогдашней Польше проявлением образованности было знание чешского языка. К тому же чехи под влиянием гуситского движения довольно интенсивно переводили религиозные тексты, в том числе и библейские книги.
Показательно, что издательскую деятельность Ф. Скорина начал именно в Праге — столице Чехии. Здесь в 1517 г. он издал свою первую книгу — Псалтырь. Этот выбор далеко не случаен: Псалтырь был очень популярен в Украине и Белоруссии. Псалмы читались в церкви, пелись. Псалтырь выступал и как учебник — в предисловии к Библии Ф. Скорина рекомендует Псалтырь тем, кто изучает «рускую грамоту». Однако эта книга была напечатана еще на церковнославянском языке. Впрочем, на полях около основного текста издатель подал отдельные слова для лучшего понимания на простом «руском языке». Значительная часть таких его объяснений имела соответствия в чешской религиозной литературе.
Потом Ф. Скорина издавал библейские книги в переводе на «руский язык»: в 1517 году в Праге вышли переведенные им книги Иова, Притч, Премудрости Сираха; в 1518 г. — Экклезиаст, Песнь Песней, Премудрость Соломона, четыре книги Царствий, Иисус Навин; в 1519 г. — Юдифь, Книга Судей, Пятикнижие Моисеево, Руфь, Эсфирь, Плач Иеремии и Книга Даниила.
Позже Ф. Скорина переезжает в Вильно, где в 1525 г. издает Апостол и, очевидно, приблизительно тогда же «Малую подорожную книгу», куда вошли разнообразные религиозные тексты. Показательно, что эти издания вышли на церковнославянском языке. В Вильно, очевидно, Ф. Скорина не имел такой творческой свободы, как в Праге. Здесь остались сильны позиции православных традиционалистов, негативно воспринимавших издание книг в переводе на «простой язык».
Исследователи отмечают (и совершенно закономерно), что на издания Скорины, особенно изданные на «руском языке», влияла белорусская языковая среда. Однако эти издания имели отношение и к Украине. Здесь книги Ф. Скорины не только распространялись, но и переписывались. Именно с украинских земель происходят многие рукописные списки книг белорусского первопечатника, из которых наиболее ранней является рукопись Псалтыря 1543 года. Переписан он был неким Партеном, жившим на украинско-белорусском пограничье в Кобринско-Пинском старостве. 1568 годом датируется так называемый Ярославский список изданий Ф. Скорины, в который вошли книги Иова, Притчи, Экклезиаст и Премудрость. В нем имя Ф. Скорины в предисловии заменено именем переписчика Василия Жугаева из г. Ярослава на Галичине, который именует себя, подобно Ф. Скорине, доктором врачебных наук и даже переводчиком упомянутых книг.
Отдельные украинские рукописные списки изданий Ф. Скорины содержат и другие библейские тексты, принадлежащие к утерянным частям полного скориненского перевода Библии. К ним следует отнести рукопись Луки из Тернополя (1569 г.), взаимодополняющие списки Дмитрия из Зинькова и священника Ивана из Манячина (1573 — 1576).
По поводу этих рукописей довольно оригинальную гипотезу высказал польский ученый М. Гембарович. Опираясь на тот факт, что все рукописные списки библейских книг, которые ученые гипотетически связывают с ненапечатанной частью Библии Скорины, происходят с восточной части Галичины и Подолья, он пришел к выводу: здесь она должна была и печататься. Вероятными местами печати Гембрович называет Кременец и Львов.
Интересные наблюдения сделал также львовский искусствовед Л. Григорчук. Он установил, что надписи (дипинти) икон с западноукраинских земель, датированных ориентировочно ХV — началом ХVI ст., очень близки по графике к шрифту изданий Ф. Скорины. Поэтому исследователь склоняется к мнению, что на иконописцев влияла графика изданий Ф. Скорины или же существовал источник, общий для этих изданий и украинских икон.
С изданиями Скорины кое- кто связывает появление такого выдающегося памятника древнерусской письменности, как Пересопницкое Евангелие. Фактически это первый или один из первых переводов новозаветных книг на разговорный украинский язык. Работа над Евангелием началась во Дворецком монастыре в 1556 г., а завершена была в 1561 г. в Пересопницком монастыре на Волыни. Переписчиком произведения был Михаил Василевич, сын протопопа из Санока на Галичине. Руководил этой работой пересопницкий архимандрит Григорий — образованный человек, знаток многих языков. Само же произведение делалось по заказу княгини Анастасии- Параскевии Заславской.
Говорить о непосредственном влиянии изданий Скорины на этот памятник довольно проблематично. С ними Пересопницкое Евангелие связывают разве что чешские влияния. Но они могли проявиться независимо — переписчиком Евангелия был выходец из земель, которые имели тесные культурные связи с Чехией. В основе языка Пересопницкого Евангелия все-таки оставался язык церковнославянский. И это понятно, ведь в то время в Украине он был языком культуры. Попадаются в этом произведении польские и чешские слова. Но все же здесь ощутимо сильное влияние украинского народного языка ХVI века. Переписчики, заметим, проявили немалый такт, объединяя украинские разговорные элементы с церковнославянскими. Можно утверждать, что переводчики Пересопницкого Евангелия стали на путь создания украинского литературного языка, который бы мог функционировать в сфере «высокой» культуры. К сожалению, эта попытка не получила должного развития. Почему так случилось, об этом речь пойдет дальше.
В 60-е годы ХVI ст. на Волыни появляются и другие переводы библейских книг на разговорный украинский язык. Эти переводы были связаны с польскими протестантскими влияниями. Заметную роль здесь сыграла уже упомянутая Радзивилловская Библия. Именно она заметно повлияла, как отмечает Дмитрий Чижевский, на появление так называемого Креховского Апостола — украинский текст этого перевода был составлен преимущественно на основе Радзивилловской Библии.
Очевидно, параллельно с Пересопницким Евангелием и Креховским Апостолом перевод на «руский язык» новозаветных текстов попробовал сделать Василий Тяпинский. Этого переводчика традиционно считают белорусом, а его произведения рассматривают как перевод на белорусский язык. Однако о В. Тяпинском мы ничего определенного не знаем: ни где он родился и жил, ни где и когда осуществил издание своего Евангелия. В. Тяпинский перевел и издал в своей, как он пишет, «нищей типографии» Евангелие от Матфея, Марка и, частично, Луки. Произошло это ориентировочно в 70-х гг. ХVI ст. Вероятно, можно сказать, что отмеченное издание касается и украинской культуры. В предисловии В. Тяпинский акцентировал внимание на том, что на Руси (собственно, в Украине и Белоруссии) наблюдается культурно- образовательный упадок. Поэтому он призывает развивать образование. В этом плане возникают параллели между указанным предисловием В. Тяпинского и «Предостережением», полемическим произведением, возникшим в среде львовских братчиков где-то в начале ХVII века.
Еще один волынский перевод новозаветных текстов на разговорный украинский язык появился в 1581 году. Это — Евангелие, переведенное в селе Хорошове (неподалеку от Кременца) местным шляхтичем Валентином Негалевским. Образцом для него послужил польскоязычный перевод Нового Завета Марцином Чеховицем, который был одним из идеологов польского антитринитаризма (арианства). В предисловии к своему переводу Евангелия В. Негалевский писал, что эту работу он осуществил не по собственной воле, а по просьбам и при поддержке многих ученых и набожных людей, которые любят слово Божье, но не умеют читать по-польски, а по-церковнославянски не совсем понимают. Из этого следовало, что на тогдашней Волыни многие люди таки не знали ни польского, ни церковнославянского языков. А их лектурой были тексты, написанные на разговорном украинском языке.
Разговорный украинский говор нашел свое отражение также в Учительных Евангелиях конца ХVI — начала ХVII ст. Памятником разговорного украинского языка в его закарпатском варианте стали так называемые Нягивские Наставления, созданные ориентировочно в середине 50-х гг. ХVI ст. Они свидетельствуют, что простонародная языковая стихия давала себя знать даже в церковной (элитарной) сфере этого региона.
Однако православные ортодоксы были против использования разговорного языка в религиозной жизни. Свидетельством этого можно считать хотя бы издание Острожской Библии на церковнославянском языке. А талантливый полемист-аскет Иван Вышенский призывал: «Євангелія і Апостола в церкві на літургії простою мовою не вивертайте…»
Борьба же православных ортодоксов против Берестейской унии, а порой и против реформаторов, сделала их неуступчивыми в плане употребления простонародной речи в религиозной службе. У И. Вышенского и других православных полемистов можно прочитать панегирики церковнославянскому языку, который они трактовали как признак «истинной веры». Понятно, в таких условиях использование украинской разговорной речи в богослужебных текстах, а значит, подъем ее до элитарно-культурного уровня был заторможен. Тем самым был приостановлен процесс создания украинского литературного языка на народной основе.
Довольно симптоматично выглядит то, что первое литературное произведение, напечатанное на украинском разговорном языке, появилось не в православной, а в протестантской среде. Этим произведением стала пьеса «Трагедия руская». Увидела свет она ориентировочно в 1609 — 1618 гг. в раковской типографии протестантов-социниан, принадлежавшей Себастиану Стернацкому. Но «Трагедия руская» так и не стала поворотным моментом в становлении украинского литературного языка. Потребовалось еще почти 200 лет, чтобы на этом языке начала создаваться художественная литература.
Выпуск газеты №:
№226, (2002)Section
История и Я





