«Поправки» Сахарова
Человек, который всегда говорил «не то»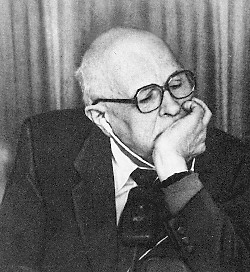
Олдос Хаксли, английский писатель (1894 — 1963)
Есть молчание, которое кричит. Иная символическая «тишина» оглушает порой сильнее, чем разрывы артиллерийской канонады. После смерти человека, поразившего нравственным примером своей жизни духовно еще не оглохшую часть советского общества, человека, справедливо признанного предтечей будущих глубочайших социальных преобразований, о нем начинают вспоминать все реже и реже, в основном только по юбилейным поводам. А его идеи мягко и очень расчетливо заглушают «ватой» умолчания. Тогда невольно возникает вопрос: а случайно ли это? Не имеем ли в данном случае дело с прекрасно продуманной пропагандистской операцией (со своеобразным знаком «минус»)? Ведь если В. Маяковский сказал : «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?», то, может быть, существует мощный социальный заказ и на противоположный процесс — тушение «звезд» в царстве духа?
Нет сомнения, что академик Андрей Дмитриевич Сахаров был именно такой «звездой». Нет, внешне его облик разительно не совпадал с принятыми канонами «пророка», а тем более «вождя» — немолодой, усталый человек с сутулой походкой, медленно и мучительно подбиравший слова, упорно стоявший в очереди к микрофону на Съезде народных депутатов, чтобы внести очередную, как многим тогда казалось, не столь уж важную поправку к резолюции.
Данные заметки писались не по случаю очередной сахаровской годовщины. Поскольку, по глубокому убеждению автора, значимость идей Андрея Дмитриевича нелепо было бы сводить к тому или иному «юбилейному поводу», то их цель иная, более скромная: просто напомнить читателям (особенно молодым) о наиболее важных нравственных, философских и политико-экономических «поправках Сахарова», которые вносил великий ученый и гуманист в «фундаментальные», нерушимые» социальные догмы своей (а впрочем, только ли своей?) эпохи. Чтение трудов Сахарова по социальным проблемам в первоисточнике во многом объясняет причины замалчивания их в наши дни.
Но вначале о величайшей, героической «поправке» Сахарова, забыть о которой мы просто не имеем права. Речь идет о «поправке» нравственной, «поправке» совести. Поправил Андрей Дмитриевич ту «философию личного успеха», которая и была, и, к сожалению, остается общепринятой в значительной части обществ «цивилизованного мира». Согласно этой философии, двигателем социального прогресса (и пожалуй, даже единственным) является личный интерес человека, его стремление к карьерному успеху. Сахаров порвал с этой философией — и это, возможно, главная заслуга его жизни. Трижды Герой Социалистического Труда, человек, практически абсолютно все потребности которого беспрекословно обеспечивались государством, имевший прямой телефон связи с Н. С. Хрущевым — ему ли протестовать? А другой «полюс» его жизни — ссылка в Горький за гневное осуждение агрессии СССР в Афганистане, голодовка с риском для жизни (повторенная несколько раз!), насильное кормление «врачами» из органов, когда его привязывали к кровати и зажимали тисками рот... Не каждый может и должен быть Сахаровым, но, вероятно, главная трагедия постсоветских обществ (и украинского не в последнюю очередь) в том, что нет сейчас, не видно личности сопоставимого мужества, благородства и масштаба. И более того: с сожалением приходится отметить, что лидеры современного правозащитного движения на всем постсоветском пространстве не прошли «испытания властью», и близко не достигают того уровня независимости мышления, научного анализа, той высоты гуманистических критериев в своих подходах к проводимой «верхами» политике, который отличал Андрея Дмитриевича. Сказанное, разумеется, относится и к нашей стране. Редчайшее исключение составляет, возможно, близкий друг Сахарова Сергей Адамович Ковалев, но отношение к нему в России неоднозначное.
Обратимся теперь к целому комплексу «поправок» Сахарова, связанных с его знаменитой теорией «конвергенции» (от латинского «convergo» — схожусь, приближаюсь). В чем только не обвиняли Андрея Дмитриевича советские органы печати в те годы, когда он обнародовал свои идеи: и в стремлении подорвать основы социализма, и в «лакействе перед Западом», и в измене героическим идеалам своей страны, и даже в «юродивом размахивании оливковой ветвью»... Между тем идеи конвергенции в своей основе достаточно просты и убедительны: кризис человеческой цивилизации возможно преодолеть лишь на путях создания качественно нового общества, которое бы сочетало в себе лучшие черты рыночного капитализма (эффективная экономика, предприимчивость, личная свобода) и социализма (человеческая солидарность, социальные гарантии).
Сахарова объявляли утопистом, но он остался верен своей концепции «конвергенции» до конца жизни (она красной нитью проходит через такие его труды, как «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» — 1968 г., Памятная записка Л. И. Брежневу — 1971 г. и другие, вплоть до последней предвыборной программы 1989 года). Именно в рамках указанной концепции ученый сформулировал свою позитивную программу, значение которой, на наш взгляд, отнюдь не уменьшилось за годы, прошедшие после его смерти (присмотримся, например, внимательно к опыту социалистических и социал-демократических партий Запада; разве они не реализовали, вольно или невольно, многие из отнюдь не утопичных идей Сахарова?). Конечно, если видеть мир в категориях абсолютного добра и беспредельного зла (без лишних размышлений причисляя к первому все без исключения общества, именующие себя «свободными и демократическими», даже Индонезию при Сухарто и Чили времен Пиночета, а ко второму — все страны, уважающие идею нетоталитарной социальной справедливости) — то Сахаров наивен и неактуален. Но все же прислушаемся к нему.
«Конвергенция», по Сахарову, это сущностный, глубокий, не сводимый к декларациям процесс сближения двух систем, непременным условием которого является демократизация общества как на Востоке, так и на Западе, «взаимная демилитаризация, социальный и научно-технический прогресс как единственная альтернатива гибели человечества» Могут возразить: к чему сейчас формулировать все эти факторы и условия, выбор нашим обществом сделан однозначный — рыночная экономика западного типа, интеграция в Европу. Но разве европейские общества (особенно там, где у власти находятся социалисты и социал-демократы) не вобрали в себя ряд существенных элементов социалистических программ? Ведь даже Президента США Ф. Рузвельта за эксперименты подобного рода правые экстремисты называли в свое время «красным». Кроме того, в условиях, когда в мире осталась одна сверхдержава и эталон социального благополучия — США, действующие зачастую с «позиции силы», далеко не всегда есть возможность академически объективно сравнивать достоинства разных обществ. Заметим только, что «конвергенция» по Сахарову — это не только процесс сближения между двумя державами, но и эволюционный социальный прогресс внутри каждого из обществ (также, естественно, и западного!).
Сказанное не уменьшает остроты и глубины критики Сахаровым «реального социализма» советского образца 60 — 70 годов (так, общество тех лет в интервью шведскому журналисту Улле Стенхольму он вообще определял не так, как его официально именовали, а как «государственный капитализм с партийно-государственной монополией и с вытекающими из такого строя последствиями во всех областях жизни общества». Еще «поправка Сахарова», которую не мешало бы принять во внимание защитникам бесплатных социальных благ «эпохи Брежнева»: «Бесплатный характер здравоохранения и образования не более чем экономические иллюзии в обществе, где вся прибавочная стоимость экспроприируется и распределяется государством» («Памятная записка Л.И.Брежневу»).
Сахаров, веривший в высшую ценность и уникальность каждой человеческой судьбы, самоотверженно защищавший политических заключенных (среди них и наших соотечественников Василя Стуса, Ивана и Надежду Светличных, Ирину Калинец, Леонида Плюща, Вячеслава Чорновола, Валерия Марченко... список можно продолжать без конца), боролся за «открытость» нашего общества — имея в виду, кстати, «открытость» не только вовне, но и для своих граждан. Он с горечью писал: «Казенно- бюрократическая логика судопроизводства неизбежно выглядит гротескной в свете гласности, даже при формальном соблюдении закона, что тоже бывает далеко не всегда». А разве утратили актуальность его слова (написано в 1974 г.!): «Для психологической обстановки в стране очень существенно, что люди устали от бесконечных обещаний экономического процветания в самом ближайшем будущем, разуверились в громких словах вообще. Уровень жизни (питание, жилье, одежда, возможности отдыха), социальные условия... — все это крайне отстает от уровня в развитых странах. В широких слоях населения развивается равнодушие к общественным вопросам, потребительская и эгоистическая позиция». Сколько воды утекло и сколь много осталось по-прежнему...
Современные политики часто живут от выборов до выборов, перспективами борьбы за власть и ее распределения. Но, может, не мешало бы им услышать тихий голос Андрея Дмитриевича: «Я убежден, что в условиях нашей страны нравственная и правовая позиция является самой правильной, соответствующей потребностям и возможностям общества. Нужна планомерная защита человеческих прав и идеалов, а не политическая борьба, неизбежно толкающая на насилие, сектантство и бесовщину». Прогресс общества есть прежде всего прогресс нравственный — этот завет Сахарова, видимо, самый важный для нас.
Выпуск газеты №:
№216, (2001)Section
История и Я





