Разговоры среди строительных лесов
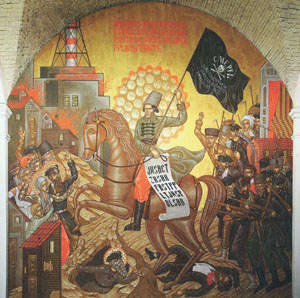
Чтобы осмыслить итоги Первой киевской биеннале современного искусства «Арсенале» и состояние отечественного искусства в целом, «День» провел специальный круглый стол, посвященный этой тематике. Гостями редакции стали программный директор Фонда «Центр современного искусства» Юлия Ваганова, заместитель генерального директора комплекса «Мистецький Арсенал» Александр Соловьев и молодые киевские художники — Никита Кадан и Владимир Воротнев. Со стороны «Дня» в беседе приняли участие Дмитрий Десятерик и Анна Шеремет.
Обратная связь
Дмитрий Десятерик: — Непосредственным поводом для нашей встречи стала «Арсенале», поэтому с нее и начнем. Точнее — с реакции (иногда полярной — от восторга до возмущения) на «Арсенале». Довольны ли вы ею?
Юлия Ваганова: — То, что не только у зрителей, но и у критиков настолько разные мысли относительно одного события — уже хороший знак. Люди пытаются анализировать увиденное и как-то реагировать. Так должно быть.
Александр Соловьев: — Это аксиома, как иначе? Мы получили незаурядное событие в календаре современного искусства. Насколько оно вписалось в этот календарь — это предмет разговора. У нас есть профессиональная критика, но есть ли критика как институт — тоже вопрос. Поэтому хорошо, что вы организовали круглый стол: это событие, которое поможет описать и проанализировать это. Потому что не хватает аналитических материалов. Восторг или невосприятие — это эмоции, а нужна именно аналитика.
Никита Кадан: — Надо сказать, что украинские реакции меня теперь мало интересуют — ведь придется отказываться от внимания к чему-то одному ради внимания к чему-то более важному — однако они не стали неожиданными. Да, не видно сильных аналитических текстов в профильных изданиях. Есть самоочевидные констатации того, что на карте международных биеннале появилась еще одна точка, что Биеннале киевская выглядит как настоящая, ее просто не успели смонтировать. Наблюдение о том, что Биеннале выглядит глянцевой, ориентированной на больших звезд, поэтому консервативной, тоже присутствует. Однако в подборке международной прессы, которая размещена на сайте «Арсенале», пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить серьезные тексты. Остается надеяться, что, может, подборка неполная.
А. С.: — Я согласен с Никитой, однако не назвал бы Биеннале глянцевой. А подборка касается оценок — удивления, что это состоялось. Украина словно родилась для крупных зарубежных кураторов и критиков, которых приехало довольно много. Не скажу, что это сплошняком комплиментарные высказывания, но, повторюсь, момент удивления есть.
Владимир Воротнев: — Полярная реакция совершенно логична, ведь у нас, собственно, общество расшатано и поляризовано. Что же касается западных СМИ, тоже не видел больших репортажей. Парадоксально: из каталога «Арсенале», где есть содержательные и интересные тексты, можно больше узнать, чем из прессы или Интернета. Хилая реакция, действительно, на уровне анализа, а не просто на уровне информационного отзыва. Последнее, конечно, хорошо, потому что получается синергическая реклама, когда многие медиа бесплатно рекламируют событие, но все сводится к перепечатке пресс-релизов. Кажется, не хватает сообщества журналистов и кураторов, заинтересованных в более глубоком взгляде на вещи.
А. С.: — В западной критике современное искусство давно уже приобрело статус. Наши реакции мне больше интересны, ведь дело не в теоретизации. Важно было пробить нашу очень консервативную общественную среду.
Обнажение симптомов
Д. Д.: — Тогда какими вы видите итоги «Арсенале»?
Н. К.: — Маленькая биеннале в румынских Яссах или Индустриальная биеннале в Екатеринбурге вызвали немало серьезных текстов, потому что несли новое предложение для развития искусства. Наша Биеннале такого предложения не содержала. Она представляла собой качественный дайджест проверенного искусства, была взрослой, но не рискованной. Спорить не о чем.
Ю. В.: — Когда Биеннале была анонсирована за 9 месяцев до начала, то я скептически отнеслась к новости: маловат срок. После того, как я посмотрела экспозиции, изменила свое мнение. Считаю, что это удачный опыт, который доказал, что у нас может проходить такое международное событие. То, что она старомодная, академическая, неплохо для Украины — ведь надо показать определенные стандарты. Дискуссионная программа, лекции, параллельная программа, несколько локаций, работа украинских и зарубежных кураторов: хороший дидактический пример того, как строится большое международное событие. Хотя, конечно, есть много вопросов.
Н. К.: — Мне Биеннале кажется важной, потому что она показала наглядно много сюжетов украинского художественного процесса. Длительное время здесь формой большого проекта было Потемкинское село, монументальная халтура, сделанная при участии всех художественных сил страны, но за 3 недели и за 3 копейки, лишенная структуры, обстоятельности, исторического измерения. На этом фоне проект «Арсенале» выглядит очень зрелым. Он показал, что многие привычные нам рабочие ходы являются совсем нерелевантными. В параллельной программе задействовали даже салонных художников, даже тех, кто называл Биеннале преступлением против отечественного искусства, но сама программа была лишена международного измерения. Например, на весьма провинциальной Московской биеннале программа специальных проектов по большей части состоит из международных выставок, которые показывают, что тамошняя сцена является частью мирового процесса. Украинская сцена, к сожалению, изолирована, и параллельная программа показала это очень хорошо. Также это можно увидеть в том, что во время дискуссий в рамках очень сильной теоретической платформы люди из круга ЦВК (Центра визуальной культуры. — Д. Д.) были почти единственными компетентными собеседниками; киевские профессиональные комментаторы искусства, кажется, не понимали, о чем речь. Это обнажение симптомов является значимым достижением Биеннале. Но остались сомнения, не является ли «Арсенале-2012» слишком привязанной к Евро-2012, не является ли она авантюристским проектом, возможна ли вторая киевская Биеннале такого же веса, не говоря о том, нужно ли брать такой вес? Не стоит ли сделать инновационный проект, поработать на переднем крае?
В. В.: — Мне кажется, что ответ — в названии, предложенном самим куратором: «Худшие времена, лучшие времена». В нашем обществе искусство существует в проблемном поле. Поэтому чем раньше эти симптомы, как говорит Никита, обнажатся, тем лучше. Действительно, есть дисбаланс между уравновешенной основной программой, притянутыми за уши параллельными проектами и, возможно, слишком продвинутой дискуссионной платформой. Не сбалансирована ситуация, которая отражает то, что мы имеем здесь. И это хорошо. Чем раньше эта проблематика будет вытянута из тени, тем лучше.
Д. Д.: — Знаете, при том, что основная экспозиция в Арсенале мне понравилась — меня не покидало ощущение, что это Биеннале бедной страны.
А. С.: — В чем это отражалось?
Д. Д.: — В ощущении недоделанности, непродуманности. В отсутствии полноценной инфраструктуры сопроводительных развлечений. Противоречивый социальный фон, о котором говорил Владимир, давал о себе знать.
Н. К.: — Дмитрий, а может, это потому, что ты видишь красивый фасад, но знаешь, что за ним нет несущих конструкций? Есть замечательный фильм молдавского художника Павла Браилы о ромском городе Сороки в Молдове. Там дома начинают строить с фасадов. Фасады украшают скульптурами летучих коней, а затем у владельца заканчиваются деньги, и он в пустых неотапливаемых комнатах за тем фасадом живет на грязном матрасе. «Арсенале» — сильное репрезентативное событие, но при том состоянии, в котором находятся публичные институции искусства, художественное образование, критика, так называемый художественный рынок, — фасад слишком контрастирует с интерьерами.
А. С.: — Давайте вспомним, что разговоры об отечественной Биеннале заострились после первой поездки украинских художников на биеннале Венецианскую еще в 2001-ом. Разговорами и закончилось. Появилась, наконец, идея — то ли под Евро, то ли под выборы — какая разница? Появился фонд — «Мистецький Арсенал» — пусть в статусе строительства. Вдруг также появилась воля. Я был первым, кто уговаривал даже не ввязываться в эту драку. С другой стороны, я понимал, что иначе тоже не может быть, момент риска обязателен. Может, кто-то действительно надеялся, что Евро повысит интерес к культуре — совсем напрасно. Главное чудо — что это состоялось. Сорос говорил о ресурсном проклятии России. У нас такое же проклятие — в форме роскошного здания Арсенала. Я давно знаю Дэвида Эллиота (куратор «Арсенале». — Д. Д.). Он куратор высокого уровня. Уникальное пространство побудило его рискнуть. Когда его спросили: «Почему вы не сделали Биеннале инновационной?», то он ответил, что это его и не интересует. Его интересовала возможность сделать что-то традиционно художественное. Конечно, будет продолжение. Актуальный вопрос — какое.
Украинское дело
Анна Шеремет: — Промежуточный вывод: прекрасно, что «Арсенале» состоялась. Мне понравилась формулировка «обнажение симптомов». Хотя странно было бы проводить настолько расходный проект, чтобы констатировать то, что и так известно. Вернемся к участию отечественных художников. Как они выглядели?
А. С.: — Любая биеннале проводится, чтобы, в том числе, мотивировать местную арт-среду. Эта задача у нас превалировала. Эллиот посещал мастерские, отобрал 20 художников в основной проект. Можно говорить, что кого-то нет, кого-то забыли, не теми работами представлены — но в целом Дэвид сделал выбор в соответствии со своей концепцией, которая строилась вокруг мощного присутствия дальневосточных художников. У него были свои кураторские диспропорции, возможно, сознательные — он, наконец, имел на это право. Всем хорош его выбор, но я бы на его месте рискнул доверить нашим художникам какие-то отдельные, развернутые проекты. Он же положился на то, что видел в мастерских.
Ю. В.: — Мне показалось, что проявились извечные проблемы украинских участников с тем, чтобы чаще путешествовать, выставляться, иметь соответствующее образование и возможность продуцировать новые работы. Большинство украинских работ не были новыми. Выставили компиляцию того, что в мастерских, и это грустно, учитывая рекламируемые возможности «Арсенале». Хотелось видеть произведения, которые наши художники не могут сделать в коммерческих галереях или самостоятельно. Вышло иначе: мы это все уже видели, и часть работ, сравнивая с зарубежными произведениями, оказалась далеко не такой сильной, как мы их рекламировали. Важно, как Биеннале использует наработанный опыт. Будет ли Арсенал каждый раз стерилизовать свои залы ради большого проекта или вырастит что-то наподобие мастерской или лаборатории.
А. С.: — Этимология слова «арсенал» арабская, как раз и значит «мастерская».
Ю. В.: — Можно повторять сколько угодно, что без лабораторного искусства ничего не состоится, но если такое искусство не интересует власть или олигарха — а оно их, как правило, не интересует — оно не будет поддержано. Зато большие структуры имеют уникальную возможность и показать большой проект, и реализовать качественные экспериментальные программы.
А. С.: — Трудно не согласиться с Юлей, и это касается не только наших авторов. Выделялись работы, которые делались специально для Арсенала, как раз в лабораторном ключе, как у Филлиди Барлоу, получившей приз.
Ю. В.: — Еще относительно украинских художников: способ их приглашения никоим образом не был международным. Они везли и выставляли свои работы самостоятельно. Способ презентации украинского искусства мало отличался от того, как презентуются художники в большинстве галерей страны. Это поразительная и грустная, как по мне, разница.
Н. К.: — Показ украинского искусства неравнозначен показу нас — социально ангажированных художников. Для меня ситуация Биеннале не стала оригинальной. Со многими международными авторами, которые были здесь, я и группа Р. Е. П. неоднократно выставлялись в других странах. То, что «здесь» было сделано так, как «там», с одной стороны, вызывало хорошее ощущение дежавю, а с другой — не вызывало его в достаточной степени, поскольку много моментов здешнего инфраструктурного недостатка, наподобие тех, о которых говорила Юля, дали о себе знать. Поэтому в данном случае для меня это что-то больше похожее на профессиональные выставки за рубежом, но вот одна из этих выставок удивительным образом десантировалась сюда. Это интересно, но не необычно. В конечном счете и Центр современного искусства при Киево-Могилянской академии мог делать выставки по международным правилам, сегодня маленькие структуры, как ЦВК, могут работать на таком уровне. То есть это проблемы не художников, а институций, комментаторов, аудитории. Художники научились выживать в этих неблагоприятных условиях.
В. В.: — Мне трудно судить, потому что я, работая на грани субкультуры и официального искусства, являюсь аутсайдером художественного процесса в Украине, поэтому немного был удивлен, что меня пригласили принимать участие. Как по мне, достаточно объективно если не в главном, то в специальном проекте были представлены практически все молодые художники, которые сейчас на слуху. Для меня это участие — достаточно серьезный символический аванс. Как и большинству украинских молодых художников, мне трудно воспринимать это участие как путь к конвенционной жизни, хотя, конечно, это очень важно, потому что те медиа, с которыми я работал на Биеннале, являются для меня новым путем.
Радикалы
Д. Д.: — Все же мне кажется, что радикальное, критическое искусство младших поколений не было представлено должным образом.
Н. К.: — Оно было представлено и в достаточно большом количестве, другое дело, что основной проект был организован как плюралистическое пространство, в котором находилось место и для диснейлендовских объектов, и для социально-критических работ. Но это кажется полумерой, словно дискуссия, в которой, если идет речь об антифашизме, то обязательно должен высказаться и фашист. Кажется, такое состояние репрезентации для критического искусства не является полноценным. И такие проекты, как последняя Берлинская или ХІІ Стамбульская биеннале свидетельствуют, что такое искусство должно создавать параллельные институции. Если позволить себе экспериментальное биеннале, то оно бы собрало критическое, политически заангажированное искусство.
А. Ш.: — Возможно ли это в Киеве?
Н. К.: — Уверен, это единственный вариант, который имел бы смысл. Во всех других вариантах — это что-то, что, наверное, дает публике более утонченные развлечения, но не дает смысла, а эти смыслы создавать надо, иначе зачем всем этим заниматься? Для рефлексии и анализа того, что происходит, есть уличный активизм. Но нужно не только выходить в публичное пространство, нужно заставлять институции служить обществу. Интервенции в места, где не ждали искусства, в любом случае не заменяют привлечения уже существующих художественных институций.
Д. Д.: — Об этом и говорим. С одной стороны — перформансы Pussy Riot, Александра Володарского, с другой — далекие от этого «Арсенале» или Центр Пинчука.
А. С.: — Такие акции хороши там, где они состоялись. Если перенести их в выставочное пространство, то они потеряют смысл.
Н. К.: — Мне кажется, что украинская неразвитость художественной ситуации не позволяет представить акционные работы частью единого целого. Люди видят в том нарушение, вызывают милицию. А на «Арсенале» они видят то, что получило определенное признание. По правде, уличный активизм и академическое осмысление социальных проблем, на которые указывает активизм, — идентичные линии фронта.
В. В.: — Мне кажется, что каждому свое место. На конгресс рисовальщиков Берлинской биеннале пригласили бразильских граффитчиков. Рисовать могли все, однако бразильцы начали рисовать что-то не так, на них вызывали полицию, поэтому они в отместку облили куратора Жмиевского желтой краской. Это иллюстрация к тому, что радикальные вещи надо делать самому, не смешивать самоорганизацию и использование коммерческих платформ, чтобы не упасть в лицемерие и двойную игру. Публика у нас мало понимает традиционное искусство, а когда речь идет о чем-то, что трансцендирует из этого формата, то и подавно. Нужно начинать работу снизу, а не сверху.
Н. К.: — Искусство никому ничего не должно. В частности, оно не должно развлекать какими-то зрелищами радикализма. Самоорганизация еще долго будет нашей основной реальностью. Пока мы на улице — приходят они, чтобы подчинить музеи своим интересам, воплотить бизнес-план по продаже салонных произведений, развернуть свой пиар. Мы можем вспомнить разгром Центра визуальной культуры или то, что происходит в настоящий момент в Национальном художественном музее Украины. Мне кажется, что нужно заставить институции служить обществу.
А. С.: — Эти институции нужно сначала иметь.
Д. Д.: — Владимир, я так понял, что вы против сотрудничества критических художников с мейнстримом.
В. В.: — Я не то чтобы против, но сомневаюсь, готово ли к этому общество? Вернусь к упомянутой метафоре: не хотелось бы иметь фасад радикализма при отсутствии наполнения за ним. Я разделяю свою гражданскую позицию и то, что делаю в искусстве. Я больше сконцентрирован на эстетических проблемах; например, в моей работе на «Арсенале» есть анализ эстетического характера современной шароварной культуры. Пытаюсь не перепутать в себе художника и гражданина.
Н. К.: — Твои вещи воспринимаются как социальная критика, что, наверное, подтверждает то, что нет чисто эстетического. Любое произведение современного искусства — это этико-эстетический комплекс. С моей точки зрения, сегодня является радикальной позиция спокойной сознательности, понимания того, что, с одной стороны, нет, ни Бога, ни царя, а с другой — есть смысл не просто сбрасывать памятники и разрушать иконостасы, а понимать, как этот механизм работает, и разорвать декорации, чтобы встать на сценические механизмы. Активистское искусство как чемпионат по радикализму кажется мне важным дополнением к социальной аналитике, которая проявляется через художественные образы, иногда очень резкие, иногда сдержанные. Политическое искусство сегодня не существует исключительно в форме крика.
Постинтернет и пост глобализм
Д. Д.: — В 1990-х много говорили о постмодернизме. Каждая эпоха имеет свое направление. Что сегодня?
Ю. В.: — Сегодня столько всего абсурдного и ненастоящего происходит, сколько накручено государством, олигархами, медиа вокруг современного искусства, что очень верится, что должна наступить такая точка, с которой можно, отбросив все «измы», пытаться продолжить искусство, которое радикально не потому, что 10 камер будет снимать эту акцию, а потому, что это единственная акция, которую автор искренне хочет делать. Пора понять значение слова «архивность» и изучить этот архив. Мне кажется, что посреди ситуации перенасыщенности может появиться эта пустота времени, которая даст возможность для использования опыта, по крайней мере последнего столетия украинского искусства.
А. С.: — Для меня главными вопросами являются те, что мы сегодня обсуждали: о границах искусства, его проявлениях, могут ли они сосуществовать в одном пространстве? Если говорить о том же постмодерне, то он, наверное, закончился, создав формальную систему, но эти большие матричные постулаты до сих пор действуют. Другое дело, что наполнение каждый раз меняется. Интереснее это все переживать, чем загадывать.
Н. К.: — Сегодня обанкротилась идея конца истории, сформулированная когда-то Френсисом Фукуямой. После длинного периода индивидуализации, фрагментации общества нужно возвращаться к историческому сознанию и на уровне малых дел, и на уровне политического проектирования. И здесь мы опять возвращаемся к музею и биеннале как к институциям. Нужно их заставлять служить обществу, а не тем, кто в настоящий момент в рамках якобы представительской демократии узурпировали власть. То есть сегодня нужно быть социальными экспериментаторами, у которых есть утопический горизонт, которые верят в существование более справедливого общества, но одновременно — быть экологически сориентированными, замедлять машину глупого прогресса, который сжигает ресурсы ради прибыли. Должна прийти такая холодная сознательность от понимания своей ответственности, от социального экспериментирования, выдумывания новых способов быть вместе.
В. В.: — Я рискну дать дефиниции. Вещи, которые принципиально отличают наше время, находятся в области технологий и уникального модуса политики, — это глобализм и Интернет. Социальные сети сегодня — доминирующие медиа, глобализм тоже уплотняет мир. Они дополняют друг друга. Здесь можно употребить такие слова, как постинтернет и постглобализм в том смысле, что как Интернет, так и глобализм уже сформированы. Мне уютно находиться в этих «измах» из-за их оптики, их проблематики.
Завтра
Д. Д.: — Закончим тем, с чего начали. Мы все надеемся, что следующая Биеннале будет. Предполагаю, наши гости имеют виденье того, какой ей быть.
Ю. В.: — Хотелось бы, чтобы эти два года между двумя биеннале были активными не только в плане подготовки, но и в плане продукта, чтобы вторая «Арсенале» была более лабораторной. Если была воля создать за 9 месяцев такое событие, то та же воля может дать художникам возможность экспериментировать. Проблема в том, что этим не всегда можно убедить власть предержащих. Образовательный процесс, без попкорна, салюта и Мики-Мауса, к сожалению, мало их интересует. Зато, когда внезапно появилось Евро, деньги на «Арсенале» сразу нашлись. Очень хотелось, чтобы вторая биеннале была более ориентирована на развитие, на процесс.
А. С.: — Синдром второго раза... В первый раз все удивлялись, а во второй уже нужно что-то определять. А для этого нужно все аналитически разобрать, и очень многое зависит от того, кто будет куратором. Мы знаем, что сегодня очень популярно приглашать не куратора, а художников, которые готовят биеннале. И здесь много будет зависеть от того, какого направления она будет. Один из кураторов Манифесты сказал, что сегодняшний авангард — авангард не формы, а содержания. Формы даже глянцевые могут быть, чтобы они создавали новый смысл. Но это очень сложная задача, нуждается в больших инвестициях, и чтобы эти инвестиции работали на государственном уровне и на уровне спонсоров, которых, как оказалось, не так уж и много у нас. Мы ждали большего патриотизма в этом плане. Хотел бы, чтобы было как биеннале в Марракеше, которая проходит в старинном дворце: там все пространство отдают художникам. Я вижу Биеннале с меньшим количеством участников, но, чтобы они работали с уникальным пространством Арсенала. Здесь я солидарен с Юлей.
В. В.: — Я бы хотел видеть стремление к работе на всех этапах процесса, от руководителя институции до монтировщика. Улучшение этой ситуации даже более важно, чем работа на результат. Должен быть определенный акцент на культуре сотрудничества.
Н. К.: — Я вспоминаю биеннале в Армении в 2009 году, в городе, разрушенном землетрясением. Это была небольшая, сложная, умная выставка, которая врастала в социальную материю города и соотносилась именно с общественной жизнью. И мне хотелось бы видеть биеннале, которая врастает в социум, в украинскую общественную жизнь. Не то, что мы имеем в настоящий момент — экзотический куст удобрили деньгами и смотрим, приживется или нет. Нужно что-то такое, что пустит корни и свяжется на уровне своей органики с тем контекстом, в котором находится. Необходимо больше работы по соединению здешней художественной актуальной жизни с международной и вместе с тем уважительное отношение к местной публике. Мне кажется, не надо кормить аудиторию из ложечки, нужно приглашать ее к серьезной дискуссии, делать дидактические проекты, которые развивают аудиторию и формируют нового зрителя.
Выпуск газеты №:
№154, (2012)Section
Панорама «Дня»





