«Вавилон — ХХI»
Разлом иллюзий III тысячелетия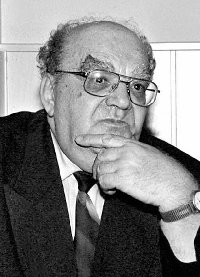
Казалось бы, мировую историю, которая за последние 5,5 тысяч лет знала лишь 292 мирных года, нельзя удивить новым военным конфликтом. Но война, начатая США против Ирака под лозунгом «Шок и трепет», приобрела особые черты. Она, ознаменовав начальные годы III тысячелетия, бросает тень на его ожидаемые ценности.
Военные действия в Ираке при всей их географической локализации, имеют эпохальные обертоны и глобальные последствия. В них задействованы основные детерминанты современной истории: борьба за сырьевой ресурс мировой цивилизации и, прежде всего, источники нефти; борьба за лидерство в мире (которая может привести к однополярному мировому порядку); развертывание политических и геополитических интересов в межконтинентальном контексте; конституирование системы международной безопасности; конфессиональные проблемы, связанные с позициями христианства и мусульманства (не исключая коллизий внутри христианского лагеря между католической Францией, Бельгией, половиной Германии и протестантизмом США и Великобритании).
Война в Ираке свидетельствует об утверждении США однополярного мира силовым путем, способным обеспечить контроль над нефтяными богатствами. Ведь их истощение грозит миру перестройкой всего производства и экономики уже в перспективе ближайших тридцати лет. Поэтому военные действия США и их союзников находятся сейчас в центре внимания и Европы, и Азии (особенно Китая).
Иракский конфликт разрушает мировой порядок безопасности, выстраданный неимоверными испытаниями ХХ века. С ним связаны неопределенности нового исторического поворота цивилизации.
По крайней мере, военные действия на Ближнем Востоке уже сказываются на векторах истории. Если в обозримом прошлом главное направление исторических процессов было ориентировано с Востока на Запад, а с эпохи Великих географических открытий в обратном движении на Восток, то уже первая иракская война («Буря в пустыне») ознаменовала дополнительный вектор истории — с Севера на Юг, инициированный постиндустриальным социумом в сторону развивающихся и полуколониальных стран. Современная атрибутика исторического движения к регионам «Третьего мира» ассоциирует вместе с тем почти эзотерические символы шумеро-вавилонского первоначала евро-атлантической цивилизации.
Смысловая нагрузка современных иракских событий невольно подсказывает нам, что историческая драма американских военных акций разворачивается в пространстве, обозначенном Святым Письмом семантикой грехопадения человека, раскола бытия на добро и зло. Ведь на территории между Тигром и Евфратом произошло, согласно библейским метафорам, дьяволово искушение людей запретным плодом познания добра и зла, за что человек был наказан смертностью.
Итак, «смерть», «добро», «зло», «грехопадение» и дьяволов соблазн — такова символизация древнего топоса цивилизации, которая придает военным действиям в его пределах почти мистериальные вид.
Тут напрашивается сюжет, согласно которому человек, по мысли Альбера Камю, испытав коллизии ХХ столетия, может в будущем вновь оказаться, как во времена Ветхого Завета, зажатым между царством жестоких фараонов и неумолимыми небесами. Так это или не так, но в настоящем пылевые бури древней пустыни крутят бесы, независимо от того, на чьей стороне они выступают. А смерть всматривается в обе стороны границы Кувейта.
В исторической реальности, помимо метафор, складывается странная ситуация. США, которые объявили себя воплощением либеральной демократии, то есть страной окончательного решения проблемы свободы и социумом, завершившим историю как становление свободного развития личности, на самом деле возвращают мир к прежним эпохам военных конфликтов. Вместо нового общества утверждения прав человека, плюрализма и толерантности нам снова грозят возвращением к истории, исполненной крови, грязи, лязга стали и слез пострадавших.
Точнее говоря, война в Ираке фактически означает точку бифуркации (резкой смены состояний, взрыва. — Ред. ) в историческом процессе современности. А это значит, что равновероятным оказывается любое развитие событий. Может сработать тенденция к однополярному миру, а может утвердиться и многополярный мировой порядок. Развитие может пойти по пути посткапитализма (американского типа), а может реализоваться и в духе постсоциализма (китайской модели). Человечество вступило в полосу нестабильности. Но отсюда следует и то, что в современном мире срабатывают законы сверхсложных систем. Эти законы, как доказывает синергетика, приводят к тому, что в одном и том же системном образовании одновременно возникают участки, где события локально протекают так, как они господствовали в прошлом; зоны, где события протекают так, как они будут доминировать в будущем; и события, характеризующие типические черты современности.
Тем самым ни мир, ни его подсистемы нельзя мазать одной краской. В нем и в них (подсистемах) сохраняется возможность утверждения этических норм, ответственных за прогресс ХХI столетия. Но эта возможность связана с исключительной сложностью нашего выбора и оценок. Духовные запросы нового мира предполагают осознание и в себе той частицы зла, против которого мы боремся, а в оппоненте — той частицы добра, за которое мы боремся. Здесь неприемлема ярость правоты. Необходима третья правда той вертикали этической оценки, которая позволяет встать над конфликтом с позиций учета общечеловеческого опыта, а не интересов борющихся сторон. Лучше всего сказать, перефразируя Шекспира: «Чума на ваши оба дома». Труднее найти консенсус для блокирования военного конфликта.
Конечно, США, прибегнув к военным акциям, совершили ошибку в эпоху, исключающую право на ошибочные действия в силу возможности их катастрофических последствий. Но ценой этого ложного шага является необходимость борьбы против деспотического режима в Ираке, режима, угрожающего всему человечеству. Ошибочна здесь форма борьбы, а не цель, ибо сопротивление деспотизму — задача общецивилизационного масштаба. Она входит в стратегию построения взаимосвязанного мира ХХI столетия, в котором люди утверждаются в сознании того, что они члены единой планетарной цивилизации. Потерять шансы участвовать в построении солидарного, демократического сообщества нового тысячелетия не может позволить себе ни одна страна. Непосредственно это касается и позиции Украины, взявшей курс на евроинтеграцию после социально-политического изоляционизма советского времени. Здесь нужно только не упускать из виду, что способность исторического действия провозглашена свыше, а дорогу мы выбираем сами.
Выпуск газеты №:
№53, (2003)Section
Панорама «Дня»





