Украина — Россия: «общая судьба» элит заканчивается
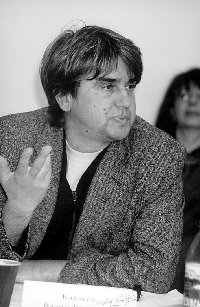
Политический кризис формирует своеобразную геополитическую сценографию развития Украины, переопределяет базовые обстоятельства украино-российских отношений. И проблема не столько в наличии/отсутствии внешней режиссуры кризиса или, по крайней мере, «зрительских симпатий», сколько в разрушении генетического и структурного сходства российского и украинского политикумов. Украинско-российские отношения в 90-х годах во многом выстраивались именно на сходной политической базе. Прежде всего это касалось моделей персоналистического и надпартийного президентского лидерства, слабых партий, оппозиционного (исполнительной власти) парламентаризма, доминирования «референдумных» и патерналистских форм представительства над институтами представительной демократии и т.д. Во- вторых, контркоммунистической «подкладки» политического режима, когда система постсоветской власти организуется как рыхлая коалиция некоммунистического большинства и как позитивная альтернатива постсоветским левым партиям и группам. К ней пристраивались «большие и малые архитектурные формы» властного режима, формировались условия для временного макрополитического равновесия.
Третье — это лавирование- балансирование власти между постсоветскими правыми и левыми (демократы vs коммунисты). В Украине — между национальными демократами и левокоммунистическим блоком, между западом и востоком Украины, между Западом и Россией. Своеобразной геополитической проекцией украинского варианта внутриполитического раскола и балансирования являлась доктрина и политика многовекторности. Сдерживание угрозы так называемого левого реванша выстраивало базовые параметры легитимности политического режима, его относительную устойчивость и «геополитическую миссию» (оказавшуюся вполне «выполнимой»).
Таким образом, единые базовые коды, политические структуры, механизмы и стили властвования выстраивали рамочные условия для российско-украинских отношений в 90-х годах.
В конце 90-х базовый контекст украино-российских отношений стал распыляться. Россия вступила в фазу национальной интеграции и политической консолидации через переход к режиму мобилизационной демократии, укрепление президентской вертикали, усиление государства и т.п. Украинский вариант консолидационной фазы развития также не исключал стратегии «вертикальной демократизации» и достижения мобилизационного равновесия. «Кассетный скандал» и сопровождающие его политические акции внесли радикальные поправки в первоначальный сценарий.
Во-первых, очевидно перепозиционирование политических сил, перераспределение национального партийного баланса: снижается роль постсоветских левых (КПУ), особенно на фоне «оппортунистической линии» руководства КПУ, радикальные изменения намечаются в правом партийном конгломерате. Во-вторых, проступает новая линия поведения так называемых центристских партий. Партийные центристы, стимулируемые скоростью политических изменений и стремительным снижением ликвидности властно-административных активов, начинают понимать, что необходимо жить, перефразируя Макса Вебера, не с власти и для власти, а с политики и для политики.
Кризис доверия к административно-силовому базису президентской власти стимулирует разрастание оппозиционной сферы и окончательно оформляет ось политического напряжения/противостояния — партии (как автономные политические агенты, заинтересованные в развитии парламентских форм демократии), с одной стороны, с другой — надпартийное «вертикальное президентство». Очевидно один из позитивных стимулирующих и реальных выходов из кризисной нестабильности — в оформлении украинской новопартийности как политико-правовой альтернативы логике и механизмам постсоветской демократии. И если власть не согласится на перераспределение влияния по логике парламентских форм демократии и партийной соревновательности, она рискует вызвать эффект «перекрестных оппозиций» — справа, слева, из центра. Иными словами, вероятным становится противодействие власти не только штатных партоппозиционеров, но и лояльных и полулояльных партийцев. Поэтому в разных формах — «без Кучмы» или «с Кучмой», «с Ющенко» или «без Ющенко» в течение кризисного и избирательного циклов (2001— 2004гг.) мы, очевидно, станем свидетелями структурных изменений в системе власти: либо по модели коалиционного многопартийного кабинета, либо состоится переход к институту партийного (связанного идеологической политической платформой) президентства, либо оформления сильной исполнительной власти правительства по германской модели kanzlerdemocratik.
Иначе говоря, Россия уже в скором времени вынуждена будет взаимодействовать с иной структурой и кадровым набором украинского политического класса. Стандарты внутриполитического пространства России и Украины будут все более расходиться. Внутриполитический контекст дипломатии — и российской, и украинской — будет существенно изменен. Как ни странно, это не будет мешать выстраиванию рациональных отношений с Россией. Более того, именно процесс реформирования украинской политики на базе соревновательной партийности, который закончится перераспределением политических сил, властных потоков и конституционных полномочий, оформлением нового национального партийного баланса, сменой украинского лидерства (прежде всего речь идет о моделях института политического лидерства) будет означать завершение складывания украинской политической нации. И, соответственно, национальных интересов. Внешняя политика страны сможет получить якорь стабильности и критерий эффективности. Таким образом, в ненадежной кризисной реальности формируется новый внутриполитический код украинской геополитики. А значит и украинская — не постсоветская — платформа внешнеполитической активности.
Выпуск газеты №:
№48, (2001)Section
Панорама «Дня»





